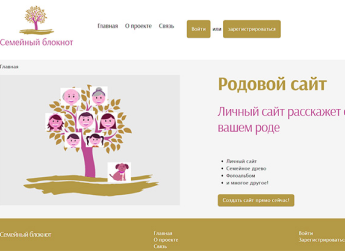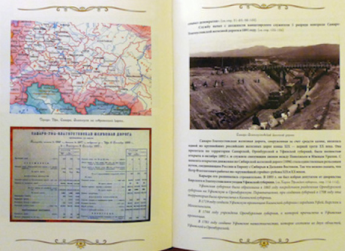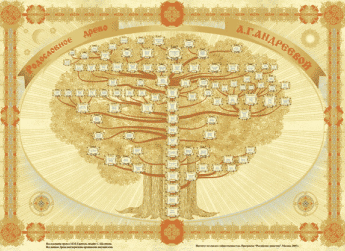Российский лингвист Николай Вахтин: «Тренд на исчезновение языков остановлен»
Профессор Европейского Университета в Санкт-Петербурге Николай Вахтин — один из крупнейших мировых североведов.
Десятки лет он провел в экспедициях в Сибири, в частности, много работал на Чукотке и в Якутии, среди чукчей и юкагиров. В 1993 году он опубликовал пронзительную книгу о состоянии сибирских культур. В ней Вахтин впервые описал трагическую историю беззащитного мира, перемалываемого советской машиной.
— В 1993 году вы выпустили очень сильную и трагическую книжку о вымирании сибирских народов. Она во многом сформировала представления интеллигенции о вопросе — и мои, в том числе. Что изменилось за эти двадцать лет?
— У этого процесса есть динамика и логика, которая видна только на большой протяженности. Это как с изменением климата: увидев короткий отрезок, нельзя понять, что происходит.
Самое раннее научное свидетельство о юкагирах — это 60-е годы XIX века. Георг фон Майдель организовал туда экспедицию по поручению российского правительства. Потом он опубликовал книгу по своей поездке, где написал, что юкагиры вообще-то вымирают, ассимилируются, забывают свой язык.
Прошло сорок лет, и в эти же края сослали Владимира Ильича Йохельсона. И в своей книге он тоже написал, что юкагиры вымирают, ассимилируются, язык знают в основном старики. В 37-ом туда же отправили сидеть Юрия Абрамовича Крейновича. И потом он написал, что издает грамматику юкагирского, чтобы спасти максимальное количество информации о языке, который почти вымер, только старушки говорят.
И когда мы попали туда в 87-году, то застали ровно ту же самую картинку.
То есть происходит какой-то странный процесс. С одной стороны, лингвисты талдычат, что вот-вот все умрет. С другой стороны, они сами же записывают в поле замечательную информацию — лингвистическую и культурную. Явно мы имеем дело с каким-то нелинейным процессом. Внешне он похож на постепенное умирание языка, но реально там происходят какие-то другие события.
— Из вашей книги я так понял, что это вымирание было результатом государственной политики?
— Нет, там все сложнее. Массовый приход русских на эти территории начался примерно сто лет назад. И примерно тогда же, в 20-х началась активная государственная политика по созданию школ, подготовке учителей, изданию учебников, в общем, организации школьного образования на языках малочисленных народов. Примерно до 34-го года это была очень модная идея. Интересно, что реакция самих северных народов на эту политику была негативной: да не нужно учить этот язык, дети его и так знают, вы лучше их русскому обучите. Очень смешно читать публикации тех лет: они не могут это прямо сказать, поскольку это противоречит линии партии, но везде сквозит, что не нужен северным народам этот язык.
Прошло поколение-полтора. Дети стали бурно учить русский, выросли, у них самих появились дети — и люди вдруг обнаружили, что их-то дети родного языка не знают. И появилось очень неприятное ощущение: мы что-то теряем.
Они думали, что все будут знать родной, а русский будет как бы бонусом, а оказалось-то совсем по-другому! Но к этому моменту, с конца 30-х и все 50-е годы, государство уже перестало вести политику поддержки малых языков.
Во-первых, это дорого, во-вторых, очень трудно — готовить учителей, учебники — а в-третьих, вы же сами не хотели.
В тот момент меняется отношение людей, начинается противоположный процесс: все 60-е и 70-е народ говорит: наш язык пропадает, верните нам наш язык. Через своих депутатов, через интеллигенцию, пишут письма Косыгину.
И постепенно начинается поворот политики — но уже оказалось, что молодежь не знает языков совсем.
И началась нынешняя фаза — довольно редкая ситуация, когда и государственная политика все-таки в пользу этих языков, и сами народы (вернее, их элиты, активисты) хотят языки возродить.
Раньше эти вещи все время не совпадали по фазе, а тут совпали.
Юкагирские старики совсем не одиноки. В последние 20 лет по всему миру началось огромное движение за возрождение, поддержку местных языков.
Сила его в том, что оно идет снизу, никак не централизовано, никем не управляется, не финансируется. Это отдельные группы энтузиастов, которые непонятно почему вдруг начинают возникать по всему миру. Сейчас они могут найти хороших экспертов, которые могут помочь, наладить что-то. Эксперты эти, как правило, работают на энтузиазме, особых доходов это не приносит.
И сейчас, мне кажется, — хотя, конечно, этого нельзя сказать про каждый язык — но в массе своей общий тренд на исчезновение языков, — он остановлен.
Если не остановлен, то очень сильно замедлен.
Двадцать лет назад ученые считали, что в ближайшее время исчезнет половина языков Земли. Последние исследования дают 19%. Это тоже очень много, тысяча триста языков — но все-таки не половина. И это происходит за счет этой малозаметной, низовой активности.
Ну и сверху поддерживается, конечно, — потому что и ученые, и международные фонды, и в некоторых случаях государственные органы сообразили наконец, что исчезновение половины миров языков Земли — это хуже, чем исчезновение розовой цапли или белоголового орлана, которых мы привыкли спасать. Там один вид, а тут половина всех языков!
Хотя федеральное правительство у нас малые языки особо не поддерживает — но, слава Богу, это отдано региональным властям. Это одна из немногих областей, где нету вертикали власти — и очень хорошо. Во многих регионах, в той же Якутии, местные власти очень много делают для поддержки языков.
— У меня сложилось впечатление, что преподавание родных языков — это чистая формальность. По всей стране идет это преподавание, огромные усилия и деньги тратятся ни на что. Дети пишут диктанты на мифическом литературном чукотском, а разговорному языку их никто не учит. Как с преподаванием английского: все его учат, но никто не ждет, что выпускник школы будет на нем говорить. Это какая-то не связанная с жизнью вещь.
— К сожалению, это так. Очень многие учителя языка не знают, и только имитируют преподавание. Но мне кажется, что лучше так, чем никак.
— Финская лингвистка Анника Пасанен рассказала мне, что они для спасения саамского языка используют совсем другую методику.
— Да, я читал ее работы. Этот способ с свое время придумали — вы не поверите — маори, коренные новозеландцы. Они назвали его «Языковое гнездо». Метод оказался очень эффективный, гораздо эффективнее любой школы. Скандинавы очень крепко взялись за возрождение саамского — и там очень удачно совпала политика государства и интенция самого народа.
— Анника попыталась сделать такие же «гнезда» в Карелии — и тоже все было хорошо, дети прекрасно учили карельский. Но потом Минобразования запретило им — сказали, что все детсады должны реализовывать единую образовательную программу, а странные иностранцы им не нужны.
— Да, мысль о том, что кто-то чужой из лучших побуждений тратит свои деньги и время — это у наших с трудом помещается в голове. Но есть другие инициативы, все не так плохо.
— Та ваша книжка была совершенно безысходной.
— Ну она когда писалась-то! В 90-х на Севере была самая настоящая гуманитарная катастрофа. Прекратилось снабжение продовольствием, многие поселки остались без отопления, потому что не подвозили уголь, на несколько лет эти люди были брошены совершенно на произвол судьбы. Началось паническое бегство, мне с Чукотки писали, звонили: «Мы погибаем, физически, от голода и холода!» Мы старались как-то помочь, организовать через Берингов пролив поставку гуманитарной помощи. Но постепенно власти опомнились, ситуация как-то выровнялась. Сейчас физическая гибель там все-таки никому не грозит.
— То есть в эсхатологические прогнозы вы не верите?
— Не верю.
— И в глобализацию и унификацию не верите?
— Не верю. Человек по-другому устроен.
Я не знаю почему, по каким-то загадочным причинам в нашей природе заложено стремление к разнообразию. И если сокращается языковое разнообразие или любое другое — то, как Ломоносов нас учил, где-то в другом месте вырастет другое разнообразие — музыкальное, модное, какое хотите. В нашей природе это заложено.
У гениального лингвиста Николая Сергеевича Трубецкого есть статья «Вавилонская башня и смешение языков». Он там утверждает, что интерпретация Вавилонского столпотворения и смешения языков как божьей кары — неправильна. Наоборот — пишет он — это не кара, а благо: когда люди попытались унифицироваться, то Бог (или природа человеческая, если угодно) не позволили им это сделать. В этой легенде в сжатом виде заложена информация о том, что
в нашей природе заложено стремление к разнообразию.
Это очень сильная идея, и я как-то в нее поверил.
— Хотите сказать, что на нашей планете все нормально?
— Нет, все очень плохо! Но не безнадежно… Знаете, в чем разница между пессимистом и оптимистом? Пессимист говорит печально: «Хуже быть не может…» А оптимист – радостно: «Может, может!»
Этот ваш юкагирский старик, который говорит: «Неужели все? Неужели мы исчезаем?» Я думаю, что нет.
Меняется основа для самоидентификации. Если раньше этой основой была этничность, язык, принадлежность к какому-то роду, то теперь становится территория. Мы — это те, кто здесь живем. Это процесс повсеместный.
Не случайно у нас сейчас появляются какие-то «поморы», о которых никто не слышал двести лет, или «сибиряки», которых по переписи 2002 года было шесть человек (и я знаю их всех поименно), а по переписи 2010 года — больше пяти тысяч. Снова появились «камчадалы», а еще — «якутчане», «чукотчане» — жуткие слова, но они есть. Это никакой не сепаратизм конечно — а неизбежный, естественный процесс замены этнической идентификации на территориальную.
— Какая тогда ценность в языке?
— Как говорил замечательный московский лингвист Александр Евгеньевич Кибрик, ныне, увы, покойный: «Страшно не потерять язык. Страшно потерять языковое разнообразие до того, как мы даже поняли, зачем оно нам нужно.»
Ведь не зря же, наверное, в человечестве существует шесть с половиной тысяч языков. Если бы нужен был один — он бы один и остался.
— Это не просто результат изолированной жизни популяций?
— Точно нет. Это зачем-то нам нужно — но мы пока не поняли зачем. И вот страшно потерять это разнообразие, пока мы не поняли. Эта мысль мне очень нравится, она очень точная.
— И зачем, как думаете?
— Не знаем пока. Может, как в природе? Биологи говорят, что биоразнообразие — гарантия сохранения жизни: если изменятся внешние условия, какие-то виды окажутся неприспособленными и вымрут, а какие-то, наоборот, окажутся приспособленными. А если бы был один вид – вдруг как раз он оказался бы неприспособленным? Эволюция устроена разумно, она не поддерживает ненужные механизмы.
— Ну так вот они и вымирают?
— Но так они же сорок тысяч лет существовали зачем-то, а сейчас за сто лет возьмут и вымрут? Слишком быстро для эволюции.
А если отбросить философию, то любой язык — это очень сильное средство самоидентификации. Это ответ на вопрос «кто я». Не во всех случаях главный. Скажем, в некоторых ситуациях, важнее ответ «я христианин» или «я мусульманин». «Я дворянин» может оказаться важнее, чем «я француз», или «я русский».
«Я житель этой местности» может оказаться важнее, чем «я носитель этого языка». Но все-таки язык — одна из основ самоидентификации. «Я — русский» — это тот, кто говорит по-русски. Не тот, кто родился в России, не тот, у кого русские родители, русские имя и фамилия.
Правда, это для нас, европейцев, так важно, а не для всей остальной Земли. Ведь
две трети населения Земли — двуязычны или многоязычны.
Для двух из троих землян вопрос «какой у вас родной язык» не имеет смысла. Они от рождения говорят на двух, трех, а то и четырех. Если вы были в Колымском, то для вас это не удивительно: это всегда был четырех-язычный поселок. Так же и большая часть мира: она не одноязычна и не поделена на национальные государства, как Европа. И люди в этом «остальном мире» по-другому относятся к языку, с меньшим пиететом. Еще один язык выучить — подумаешь великое дело. Исчез язык — ну и Бог с ним.
— Говорят, что билингвы по-другому думают. Это так?
— Да то же самое, что с любым другим навыком. Художники по-другому думают? Музыканты по-другому думают? Просто еще одна мощная коммуникативная система. Это дополнительные возможности — но и не более, никакой мистики.
— А может, дело вообще не в языке? Может, язык — это просто метафора потребности сохранить традиционную жизнь? Мне жаль, что исчезает эта культура, потому что это детство человечества, связанное с природой. Но это все связано с охотой, с оленями, вымирающими практиками.
— Я помню, в Нелемном был юкагир Василий Шалугин, по прозвищу Чемоданчик,. И мы как-то едем с ним на моторке по Ясачной — часов пять утра, но лето, поэтому солнце высоко, тишина, только мотор тихонько рычит сзади, тихий у него был мотор. И он показывает мне: «Видишь, вооон, сова летит?» А я не то что сову, я там с трудом елки различаю на берегу. «Этот сова, – говорит Чемоданчик, – это муж того сова, который у тебя живет около дома.» Я думаю: мать честная, он же видит мир совершенно не так, как я!
И с нами был мальчишка, его племянник, лет восьми наверное — тоже в такой штормовочке, в маленьких резиновых сапогах, одет совершенно, как дядя Вася, только маленький. И все это время — мы шли часа четыре, к его охотничьей стоянке шли — и все это время этот пацан стоял на коленках на лодочной банке впереди и неотрывно смотрел вперед. Он за четыре часа не сказал ни слова, ни разу не изменил позы — вот тогда я понял, как передается это знание. Он смотрит вперед, изучает этот мир, и все время слушает, о чем говорит дядя.
И он, конечно, видит «этого сова», и понимает, чей он муж.
У них, конечно, поразительное знание природы. Но когда первых студентов из тундры привезли в Ленинград учиться в Герценовский на Северный факультет — то оказалось, что первые полгода их надо учить спускаться по лестнице, открывать дверь, спать на кровати, переходить улицу, ориентироваться в городе. Они не умели ничего — точно так же как, мы там.
— Все равно странно, что у нас в России есть такой «Дикий Запад», где живут свободные люди, гоняют стада, есть эти удивительные народы — и никому как-то это не интересно.
— Мне кажется, извините, что это характеристика того круга, в котором вы общаетесь. В Сибири мысль о том, что мы тут совсем по-другому живем, чем там, в Европе, что мы тут свободные люди, что у нас тут далеко до начальства и мы тут делаем, что хотим, — я с этой мыслью сталкиваюсь регулярно.
Не попадалась вам последняя книжка Олеси Герасименко «Не единая Россия»? Очень симпатичная книжка. Она поездила по Сибири, поговорила с людьми: конечно, никакого сепаратизма нет, никому это не нужно. Есть просто усталость от диктатуры Москвы — это есть везде — и ощущение, что мы тут живем по-другому.
Но мы и тут не уникальны. В Америке, например, есть Аляска, где все население — вот такое, как вы говорите. Туда едут те люди, которым тесно в остальных 48 штатах, которым хочется больше свободы. И там ровно это — там просторы, свободные люди, и до сих пор люди живут совершенно по-другому, чем во всей остальной Америке. Ну и у нас это есть, конечно. Да что далеко ходить — поезжайте к беломорским рыбакам.
— Один из главных героев моего репортажа, Петя Каургигнен — немножко трагическая фигура. Он крепкий мужик, и детей своих, конечно, постарался выучить, они у него в Якутске. А сам он все гоняет оленей, изо всех сил старается сохранить кочевые маршруты — неизвестно для кого.
— Так для себя прежде всего.
У каждого из нас в каком-то возрасте возникает такая потребность — в сохранении традиций, которые ты с детства знаешь. Это могут быть традиции в чем угодно — в семейных праздниках, в поведении, в каких-то моральных нормах или их отсутствии. Общество ожидает от нас этого — и мы становимся носителями традиции. А что некому передавать — так никто и не обещал, что все будет хорошо. Все мы умираем, а дети вырастают не такими, как нам хочется.
Давайте обсудим ваш вопрос или заказ!
Изложите суть Вашего запроса в области генеалогии. Наши специалисты обязательно свяжутся с Вами, проконсультируют и найдут наиболее подходящее решение.