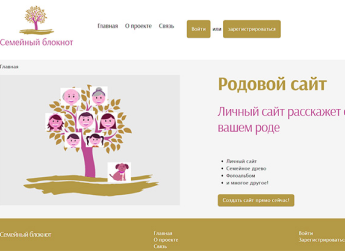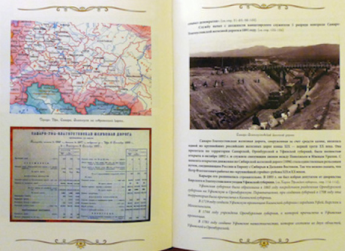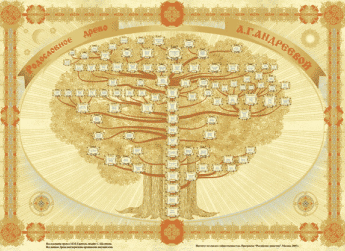Сон о Двенадцатом годе
30 декабря (18 декабря по старому стилю) 1812 года в местечке Тауроген, ныне литовский город Таураге, прусский генерал Йорк, действуя без ведома своего короля — союзника Наполеона, заключил с русскими соглашение о нейтралитете. Позднее это назовут самой смелой авантюрой в истории Пруссии.
Вторая половина декабря 1812 года. Наполеон и остатки его основной армии покинули пределы Российской империи. Но задержавшийся под Ригой 10-й корпус маршала Макдональда только начал отходить к Тильзиту на Немане. В его составе находились 7-я пехотная дивизия и Прусский вспомогательный корпус. Последним командовал генерал Ганс Давид Йорк.
Йорк уже не видел в Макдональде начальника и с 17 тысячами солдат намеренно отстал. Можно сказать, «отцепил свой вагон от локомотива». В итоге он наткнулся на авангард 1-го пехотного корпуса Витгенштейна, которому Кутузов поручил отрезать и окружить войска Макдональда. Обе стороны демонстрировали дружелюбие — причин хватало и у тех, и у этих. Пруссакам проливать кровь за «чужого дядю» надоело, а командующий русским отрядом генерал-майор Иван Дибич имел под рукой всего 1400 казаков. Сын прусского офицера, перешедшего в 1792 году на русскую службу, он легко нашёл общий язык с земляком Йорком.
По условиям подписанной ими Таурогенской конвенции Прусский корпус объявлялся нейтральным. А прямым следствием соглашения стал быстрый уход французских войск из Восточной Пруссии и столь же быстрое — в январе 1813 года — вступление на немецкую землю русской армии. «Ничего подобного уже целый век не было в Берлине! — писал в феврале 1813-го один из местных журналов. — Хрупкие женщины целовали бородатых казаков и лихо прикладывались к фляжкам с водкой».
Для России Отечественная война закончилась. Начались заграничные походы...
«Положивши на тарелку котлету...»
Историография 1812 года, если говорить о предмете в целом, тяжела для восприятия. Она напоминает состояние забытья, сомнамбулическое марево, бесконечно далёкое от сути вещей. Передвигаться по её сумрачным тропам так же сложно, как бежать во сне, — словно кто-то незримый хватает за ноги. Впрочем, удивляться нечему. Достаточно будет процитировать французского исследователя Антуана Про: «История — это то, что делают историки... Нет Истории sub specie aeternitatis (подобной вечности), чьи письмена оставались бы неизменными, проходя сквозь горнило времени, но есть разнообразная продукция, которую люди, живущие в данную эпоху, договариваются считать историей».
Словом, мы с вами обречены наблюдать не само явление, а то, как оно отражено, вернее искажено, в различных источниках. В случае с войной 1812 года степень искажения, увы, экстремально высока. Концентрация дыма Отечества, напущенного мифотворцами, такова, что поневоле начинаешь задыхаться.
Мне, автору этих строк, никогда прежде не доводилось вникать в тематику Первой Отечественной. Я подошёл к ней со школьным багажом, с представлениями, почерпнутыми из учебников советской поры. Наполеон, Кутузов, Багратион, батарея Раевского, Бородино — весь этот до боли знакомый узкий круг, этот шаблонный, словно высочайше утверждённый на века ряд персонажей, названий, фактов мешал любым попыткам рассмотреть события в их исходном свете. Пришлось обложиться трудами серьёзных исследователей, книгами, содержащими рапорты, письма, реляции, дневники участников войны. И оказалось, что эпопея Двенадцатого года — это ещё и такие «периферийные» эпизоды, как Таурогенская конвенция, как осада маршалом Удино Динабургской крепости, как взятие генералом Тормасовым Кобрина, как обстрел русским флотом Данцига...
В какой-то момент вспомнился Ницше: «Если долго всматриваться в бездну, бездна начнёт всматриваться в тебя». Она, бездна, явилась в лице фельдмаршала с тяжёлыми эполетами. Привиделся странный сон: якобы мы с Кутузовым, будучи единственными двумя участниками военного совета в Филях, спорим, сдавать древнюю столицу Наполеону или всё же попробовать отстоять. Впрочем, это скорее был не спор, а мои убогие попытки переубедить легендарного оппонента. Кажется, я говорил Светлейшему: «В пожаре погибнут тысячи раненых при Бородине русских солдат, сгорит библиотека Бутурлина, в пепел обратится две трети города, французы и окрестный люд разграбят его подчистую, мы потеряем реликвии Кремля, страна понесёт невообразимый материальный и нравственный урон...»
В ответ слышал одно: «Москва всосёт неприятеля как губка...» и «с потерей Москвы не потеряна ещё Россия...» И так — до утра, до пробуждения: мои бесполезные доводы, его свинцовое «нет»... Ощущение возникло двоякое, совпавшее, так сказать, с литературно-кинематографическим. С одной стороны — неотвратимости и необратимости фельдмаршальского вердикта, некой заведомой презумпции его правоты. С другой — очевидной недосказанности, какой-то неловкости от того, что в итоге осталось за кадром. А там остались слёзы, отчаяние, боль и смерть, искалеченные судьбы. Жертва, принесённая для вовлечения французов в гибель, оказалась невообразимо велика.
Речь не о Кутузове и не о его решении. Речь опять же об историографии этой войны, в которой есть как бы первый план, всем нам знакомый фасад, и есть нечто, сокрытое от глаз.
Возьмём эпизод с назначением Кутузова главнокомандующим. Не любившему его Александру I, по собственным словам царя, пришлось уступить напору общественного мнения и «остановить свой выбор на том, на кого указывал общий глас».
«Общий глас» — понятно, не крестьяне, а высшее дворянство. Кутузов, помимо того, что обладал колоссальным боевым опытом, был непревзойдённым сановником, царедворцем, искуснейшим хитрецом. Он никогда, даже пребывая в опале со стороны Александра I, не терял тех нитей, что вели к первому лицу России. В начале кампании 1812 года Михаил Илларионович находился в Петербурге на второстепенном посту командира Нарвского корпуса, а затем Петербургского ополчения. Но что важно — в столице!
Александр I общался с людьми своего двора — с высшим светом, который состоял не просто из дворян, а из родовитых дворян. То есть многочисленных потомков русских князей и бояр, чьи предки отличились на службе великим князьям и самодержавным государям. Эта бесталанная знать паразитировала на теле империи. Она исправно получала чины, оправдать которые на поле боя не могла. Её тесные отношения с Кутузовым и грянувшая война удачно совпали. Перст указующий отреагировал мгновенно.
Писатель Юрий Мухин приводит маленький штрих из воспоминаний Ермолова, который вместе с Беннигсеном прискакал к Главнокомандующему в Ельню — доложить, что Наполеон покинул Смоленск. «Выслушавши доклад мой, он предложил генералу Беннигсену завтракать с собою и, положивши на тарелку котлету, с обыкновенною приветливостию подал мне её и вместе рюмку вина. С ними отправился я к окошку, ибо по тесноте негде было посадить меня». Оцените ситуацию: в столовой наверняка лучшего дома в Ельне не нашлось места для начальника штаба 1-й армии. Кто же там сидел, что Кутузов не соблаговолил согнать их, чтобы дать позавтракать вернувшемуся с фронта четвёртому в действующих войсках по занимаемой должности генералу?
А там сидела толпа сановных вельмож в званиях генералов, тащившаяся за армией с целью получения орденов и обозначения своего участия в войне. Вызовет Кутузов такого генерала раз в месяц: «Езжайте, голубчик, к Дохтурову, скажите, чтобы не медлил!» Вернётся из войск этот герой, бесстрашно воюющий в штабе армии до обеда с голодом, а после обеда со сном, — Кутузов представляет его царю к ордену.
Понятно, почему эта среда отвращала боевых офицеров. «Я в Главную квартиру почти не езжу, она всегда отдалена, — писал о штабной атмосфере в Тарутинском лагере Николай Раевский. — А более того, что там интриги партий, зависть, злоба, а ещё более во всей армии эгоизм, несмотря на обстоятельства России, о коей никто не заботится».
«Кто принялся за кислые щи...»
25 декабря 1812 года Александр I подписал в Вильно манифест, гласивший: «Войска, вельможи, дворянство, духовенство, купечество, народ, все государственные чины и состояния, не щадя ни имуществ своих, ни жизни, составили единую душу...»
В чём же проявилось единство? Пожалуй, в патриотическом самообольщении. «Всякий малодушный дворянин, — писал граф Ростопчин царю 14 декабря 1812-го, — всякий бежавший из столицы купец и беглый поп считает себя, не шутя, Пожарским, Мининым и Палицыным, поскольку один из них дал несколько крестьян, а другой несколько грошей, чтобы спасти этим всё своё имущество».
«Тупую гордость во всех сословиях, в каждом сознании, что без него государство погибло», — отмечает тот же Ростопчин в письме Воронцову в начале 1813 года.
Пушкин в своём «Рославлеве» даёт самую злую характеристику расплодившимся галлофобам: «Гонители французского языка... взяли в обществе решительный верх, и гостиные наполнились патриотами. Кто высыпал из табакерки французский табак и стал нюхать русский; кто сжёг десяток французских брошюр; кто отказался от лафита и принялся за кислые щи...»
Этот салонный патриотизм не отличался эмоциональной глубиной, зато нёс в себе много фальши. Но и это чисто внешнее возбуждение далеко не простиралось на всю Россию. «В Тамбове всё тихо, — констатирует 30 сентября 1812 года фрейлина императрицы Мария Волкова, — и если бы не вести московских беглецов да не французские пленные, мы бы забыли, что живём во время войны». Она же сообщает, что в Петербурге веселятся и что «в русский театр ездят более чем когда-либо».
Ну а по мере того, как жизнь входила в старое русло, «спасители Отечества» начали подумывать о восполнении того, что вольно или невольно они принесли на алтарь. Любопытны ходатайства, с которыми москвичи обращались к правительству в целях возмещения убытков от пожара. Среди заявивших претензию немало представителей знатных фамилий: граф Головин требует возместить ему 229 тысяч рублей, граф Толстой — 200 тысяч и так далее.
Потерянные вещи перечисляются до смешных мелочей: в реестре княжны Засекиной упомянуты четыре кувшина для сливок, две масляницы, чашка для бульона; дочь бригадира Артамонова просит вернуть ей новые чулки. Одна дама поставила в счёт 380 рублей за сгоревших канареек. Таким образом, будничные расчёты и эгоизм всецело торжествуют над идеальными чувствами, провозглашаемыми в одах. «При свете ламп и люстр приметно начинал гаснуть огонь патриотического энтузиазма нашего», — свидетельствует знакомый Пушкина Филипп Вигель.
Что же до патриотизма в крестьянской среде, его не наблюдалось ни в каком виде. По воспоминаниям мемуаристки Анны Хомутовой, сдача в ополченцы в Москве «на каждом шагу» сопровождалась «раздирательными сценами». Люди при первой возможности сбегали и прятались по лесам, опасаясь, что их, вопреки обещанию, забреют в армию, как это случилось с ополченцами 1807 года. Помещики же весьма тщательно соблюдали свои выгоды, делегируя в ополчение ненужные элементы крепостной деревни: увечных, физически слабых мужиков.
«Какой-то там полковник...»
Мы мало знаем о Двенадцатом годе ещё и по причине «макулатурных кампаний», которые валом прокатились по стране с 1919-го по конец 1930-х годов. Из архивов изъяли и уничтожили гигантское количество относящихся к войне бумаг, якобы «не представлявших практической и научной ценности». Остальное удалось сберечь лишь чудом. Из того, что сохранилось, по сей день много не опубликовано. Например, все документы фонда Барклая де Толли, а это концентрированный архив 1-й Западной армии.
Мы мало знаем о Первой отечественной ещё и потому, что механизм мифотворчества заработал едва ли не в первые её дни и раскручивался непосредственными участниками. Частью этого механизма были реляции на имя царя и послания жене того же Кутузова, который всегда занижал собственные потери и завышал потери противника. Последние определялись по старому суворовскому принципу: «Пиши поболе. Чего их, супостатов, жалеть». Той же линии станут придерживаться в донесениях вышестоящему начальству и в частной переписке командиры Красной армии. Так, Георгий Жуков сообщил супруге из Монголии в сентябре 1939-го: «Мы потерь имеем мало».
В 1910 году страшный гнев властей навлёк на себя полковник русской армии архивист Николай Поликарпов, который своим трудом «Боевой календарь-ежедневник Отечественной войны 1812 года» опроверг сразу несколько казённых легенд. Так, автор утверждал, что переломным моментом войны стало не Бородино, а Тарутинское сражение, что отец-зачинатель партизанских отрядов — не Кутузов, а Барклай. В общем, человек замахнулся на святое. Командующий войсками Московского военного округа генерал Павел Плеве заявил: «Какой-то там полковник хочет разрушить установившийся уже в течение чуть ли не ста лет общий взгляд на Отечественную войну 1812 года...»
Этот взгляд формировали среди прочих сотрудники журнала «Сын отечества», дворянские историки Михайловский-Данилевский и Богданович, художник-баталист Василий Верещагин, чьи полотна типа «Не замай!» откровенно фантастичны.
Но нашлись личности, противопоставившие мифам свои воспоминания, свои оценки. Это, например, педантичный военный теоретик Карл Клаузевиц или боевой генерал Ермолов. Героический патриотизм последнего, по точному замечанию историка Якова Гордина, был принципиально несовместим с прагматичным патриотизмом, с добродушно-циничной дипломатией Кутузова. Офицеры, подобные Ермолову, Раевскому, Кульневу, Неверовскому, Дохтурову, Давыдову, исповедовали идеологию подвига и избегали околопридворных кругов. Их угнетало то, что энергия войны — этой величественной и благородной формы существования — снедалась нечистыми страстями.
В бурно веселящемся по случаю победы Вильно, куда приехал Александр I, на толпу вельможных закадровых фигур просыпался дождь царских наград и выдвижений. Однако не это агрессивно-послушное большинство стало ассоциироваться с понятием «Отечественная война 1812 года». В бессмертие пробились люди, пропахшие дымом бивачных костров. Те, кто, как Барклай де Толли и Багратион, спасал армию при отступлении. Кто, как Витгенштейн и Тормасов, сдерживал неприятеля на флангах. Кто, как Ермолов и Раевский, выказывал чудеса доблести при Бородине. Кто, как Милорадович, довершал разгром «двунадесяти языков».
И конечно, ворота в вечность широко распахнулись перед стариком фельдмаршалом. Как же без него?
Давайте обсудим ваш вопрос или заказ!
Изложите суть Вашего запроса в области генеалогии. Наши специалисты обязательно свяжутся с Вами, проконсультируют и найдут наиболее подходящее решение.