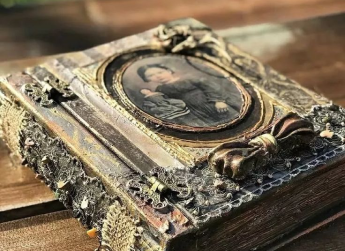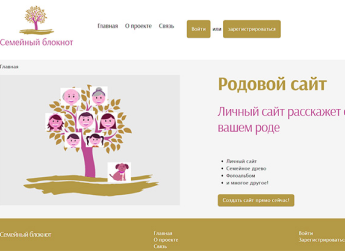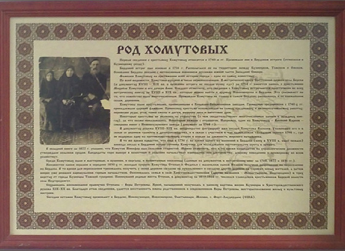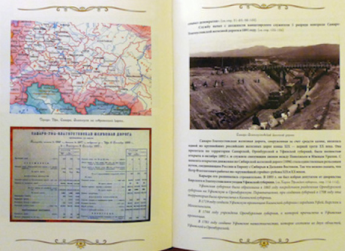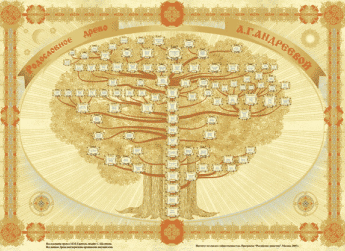О национальной гордости и плодах краснословия
Этот текст я, в общем-то, украл. Или точнее, взял без спроса из ЖЖ Александра Фролова, последнего талантливого публициста Компартии РФ, одного из последних по-настоящему образованных марксистов в ее руководстве (Фролов - член Презициума ЦК КПРФ). В общем, почти "Джельсомино в стране лжецов". Но вопрос, который поднимает автор, стоит гораздо большей аудитории, которую может предоставить блогосфера. Естественно, шансов опубликовать такой текст в партийной печати немного, а в непартийной - тем более. Важный вопрос, "архиважный", как сказал бы классик. Вопрос выбора.
Анатолий Баранов, гл.редактор ФОРУМа.мск
Прошло почти четыре месяца после Пленума ЦК КПРФ, посвященного задачам партии по защите русской культуры. Накануне пленума в нашей печати прошло много публикаций о том, в каком тяжелом положении находится русская культура, и почему ее нужно защищать. Теперь логично было бы ожидать вала публикаций о том, кто и как защищает русскую культуру. Но этого вала пока нет. Почему же?
***
Сплошь и рядом забота о русской культуре сводится к хныканьям и жалобам на отсутствие помощи «свыше» и упованиям исключительно на нее. Читаем, например, в одной из статей товарища С. Строева из Питера: «Денег на культуру Кудрин не даст... Коммерческого интереса возрождение русской культуры не представляет».
Первое ясно само собой: Кудрин и Швыдкой ничего не дадут, не для того они поставлены. А вот второй тезис совсем не очевиден. Почему русская культура не представляет коммерческого интереса? Она что, безнадежная иждивенка? Почему для устроителя балетных «русских сезонов» в Париже Дягилева она представляла коммерческий интерес, а теперь нет? Почему «звезды» шоу-бизнеса разъезжают в кадиллаках, отделанных горностаем, и тратят на свои бесконечные свадьбы и разводы помногу миллионов долларов? Им Кудрин, что ли, платит? Нет, им платит их зритель и слушатель. И они не жалуются на отсутствие платежеспособного спроса. Деньги на зрелища у людей находятся.
А мы почему жалуемся? Откуда такое стойкое убеждение, что высокое искусство заведомо убыточно и нуждается поэтому в государственных дотациях? А прибылен, мол, только низменный шоу-бизнес. Здесь нельзя прятаться за гордую фразу о том, что высокое искусство, по своему определению, не продается. Если не продаетесь, то нечего просить денег и у государства.
Нелишне напомнить, что основатель современной русской литературы и русского литературного языка Пушкин был первым нашим профессиональным писателем, очень даже озабоченным своим «бизнесом». Именно он сказал, что «не продается вдохновенье, но можно рукопись продать», и не видел в продаже ничего дурного. Правда, после гибели величайшего русского поэта остались крупные долги. Но уже Некрасов сумел свести баланс основанного Пушкиным журнала «Современник» с очень приличным положительным сальдо.
Так вот, пока «коммерческого интереса возрождение русской культуры не представляет», она никогда и не будет возрождена.
Материальное выживание деятеля культуры зависит, в конечном счете, от спроса на его произведения. Но от чего зависит спрос? - От художественного вкуса. А вкус - от общих условий социального бытия. В том числе и от художественной политики государства. Но не только от нее.
Не будем говорить об авторах бульварных романов, модных певцах, кинодеятелях и галеристах. Возьмем серьезных живописцев Шилова и Глазунова. Вполне обеспеченные люди, а принадлежность их к серьезному искусству не подлежит сомнению. А великий наш музыкант Владимир Спиваков! Ведь он не только зарабатывает немалые деньги своими концертами, но и тратит большую их часть на поддержку юных дарований. Стипендиатами его Фонда являются 800 человек, 350 из них стали лауреатами международных конкурсов и фестивалей.
Да, это неприятный факт, что спрос на низкопробную развлекуху сегодня выше спроса на произведения, требующие от человека работы ума и сердца. Но это что, закон природы? Нет, это закон общества. Капитализм, как писал Маркс, враждебен ряду видов искусства. Но и этот закон далеко не абсолютен даже в рамках капитализма. Об этом свидетельствует хотя бы опыт русских художников-передвижников. Молодые основатели этого движения никак не могли пожаловаться на отсутствие господдержки. Наоборот, впереди их ждали золотые медали, премии и длительные творческие командировки в Италию. Но они сознательно восстали против культурной политики царизма. Демонстративно отказались живописать за казенный счет «пир в Валгалле» и предпочли живописать многотрудную жизнь своего народа, жить одной жизнью с людьми труда. И что же в итоге? Товарищество передвижных выставок осталось в истории не только как великая художественная школа, но и как успешный «бизнес-проект». Да, Августы, Меценаты, Медичи нужны и сегодня. Но не будем забывать, что сначала сделал свое дело Иван Крамской, и только потом пришли купцы-меценаты братья Третьяковы.
Сегодняшняя проблема, видимо, в том, что мы еще не вполне поняли, что значит «защищать культуру». Да, есть леваки, считающие заботу о национальном развитии изменой интернационализму. Нежелание и неумение понять роль коммунистов в защите интересов русского народа - это одна сторона медали и одна беда. Но некритическое принятие любых якобы патриотических словес якобы в защиту русских и их культуры - тоже беда, другая сторона той же медали.
В защите культуры нужно уметь отделять национальную гордость от национального самомнения, чувство национальной самобытности - от чувства национальной исключительности. А то ведь вся «защита» сводится пока к тому, что среднего голоса певцы объявляются корифеями вокального искусства; бездарные графоманы ставятся в один ряд с тремя Толстыми; ваятели, не знающие ни человеческой, ни лошадиной анатомии, котируются чуть ли не как новые Микеланджело. И все это воздается им только за то, что они патриоты и любят русский народ. Не поздоровится от этаких похвал!
Блаженной памяти пролеткультовцы утверждали в принципе то же самое: ты умен и талантлив уже только потому, что ты пролетарий. Как писал Маяковский, высмеивая вульгарно-социологический «пролеткульт»,
У Стёпы незнание точек и запятых
Заменяет инстинктивный массовый разум ,
Потому что батрачка - мамаша их,
А папаша - рабочий и крестьянин сразу.
Сегодня в моде казенное поклонение уже не классовому, а национальному «инстинктивному разуму». И, увы, эта мода не обошла и левопатриотический лагерь. Такого «пролеткульта наизнанку» в патриотической публицистике сколько угодно. Очень много развелось «защитников культуры», прямо оскорбляющих своим невежеством и самомнением национальную гордость русского народа.
Проблема очень обширная, коренящаяся в массе экономических, социальных, политических и идеологических вопросов. Охватить их в рамках одной статьи невозможно. Поэтому затрону лишь один из них - проблему краснословия.
***
К примеру, очень хотелось бы знать, как и чем сможет защитить русскую культуру (да и любую культуру вообще) автор, на полном серьезе утверждающий: «Народ наш всегда был устремлен к солнцу, к его восходу. Не случайно и культура русской цивилизации называется КУЛЬТуРА - культ Солнца». Поверьте, это вовсе не анекдот и не цитата из чеховского «Письма к ученому соседу». Это пишет не отставной урядник Василий Семи-Булатов и не ученик сапожника Ванька Жуков, а товарищ В.С. Никитин - лицо, облеченное высоким партийным доверием, но, к сожалению, этим доверием злоупотребляющее.
Дорогие друзья и товарищи, братья и сестры! Укажите мне такую обитель, в ворота которой пролезет это великое этимологическое открытие! Впрочем, оно давно известно и восходит к доморощенным изысканиям Николая Рериха - посредственного живописца и еще более безнадежного философа. Тем не менее, цитирующий обязан отвечать за цитируемое. Поэтому читатель вправе спросить у уважаемого автора, как, с точки зрения рериховской «этимологии», переводятся на русский язык такие слова: натура, авантюра, префектура, резидентура, креатура, политура, дура, а также Шура и Мура. До сих пор языковеды единодушно считали, что суффикс (a)turа пришел к нам из латыни в основном через заимствования из английского и французского языков, равно как и ряд других, - например, суффикс ment. Теперь же, в свете рериховских «открытий», приходится признать, что все было наоборот. Не следует ли поэтому отметить, что слова парламент и регламент, момент и Стрижамент (гора в Ставропольском крае и одноименная марка горькой настойки) связаны с «исконно русским» культом «мента»?
Сапожник Аляхин «учил» Ваньку колодкой по голове, а евонная хозяйка - селёдкой в харю. Но, полагаю, за теоретические ошибки надо наказывать все же не такими методами, а простым указанием на несоблюдение общепринятых в научном обиходе правил. Повторю, абсолютно непонятно, как, располагая вышеуказанным словарным и понятийным запасом, можно защищать какую бы то ни было культуру. Впрочем, есть еще один способ «защиты», именуемый тавтологией, или, проще говоря, переливанием из пустого в порожнее.
Вот извольте ли ознакомиться с таким определением, принадлежащим еще одному автору, товарищу Ю.П. Белову: «Духовная культура есть процесс и результат осуществления базовых ценностей человека. Базовые ценности духовной жизни народа, нации формируются всей историей их возникновения и развития. Они закодированы в духовной культуре, что определяет особенности национального сознания».
Ну, скажите на милость, разве это не краснословие? Вчитаемся еще раз: «Масло есть процесс и результат взбивания маслянистности из масла. Маслянистость масла формируется всей историей его взбивания. Она заключена в масле, что и определяет особенности масла». Ну и кого автор этим «маслом» хочет накормить или по усам помазать?
Ценности духовной жизни формируются исторически... Это сказано верно, но, к сожалению, этого совершенно недостаточно. Потому что далее ни слова не говорится о том, какова же эта история, и не проясняется, почему в ее ходе ценности сформировались именно такие, а не какие-нибудь другие. Возможно, этот вопрос представляется автору праздным. Чего уж тут рассуждать - раз «исторически», то и делу шабаш. Были и такие мыслители - немецкие романтики, о которых Маркс говорил, что они возвеличивают кнут на том основании, что это кнут исторический.
И вновь вспоминаются строки Маяковского: «Революция - культурная, а докладчики... не очень».
Или ещё, например, заголовок статьи товарища Ю.П. Белова, откуда взято вышеупомянутое определение: «Одна (Культура. - А.Ф.) на всех, как и Россия». Утверждение сильное и ко многому обязывающее. Прежде всего, оно обязывает автора опровергнуть противоположное утверждение Ленина о наличии двух культур в каждой нации. Был ли Ленин неправ изначально? Или он был прав в свое время, а теперь условия изменились? Если так, то как же они изменились? Однако все эти вопросы обходятся бочком.
Допустим, что Ленин заблуждался, и культура на самом деле одна - единая и неделимая между Лениным и Пуришкевичем, Твардовским и Бродским. Но тогда зачем ссылаться на ленинский авторитет и громко укорять всех задающихся «неудобными» вопросами марксистов в том, что им не хватает именно ленинизма? Да еще присовокуплять такое понимание якобы ленинизма: «Ленин в начале ХХ века обратил внимание, что капитализм, который во времена Маркса нес свободу нациям, переродился под воздействием финансового капитала в империализм, целью которого стало господство, а не свобода. Ленин сделал важнейшей вывод, что империализм есть эпоха угнетения наций на новой исторической основе, когда к эксплуатации труда капиталом добавляется и новая беда - угнетение духа нации. Исходя из особенностей новой эпохи и России, Ленин дополнил классовый подход Маркса, основанный на материализме и политэкономии, элементами цивилизационного подхода, основанного на социокультуре и духовности» (из статьи товарища В.С. Никитина).
Что здесь имеется в виду? Где конкретно откопано у Ленина все вышеизложенное? Можно лишь предположить, что речь идет о двух отмеченных им исторических тенденциях национального развития при капитализме. Первая: пробуждение национальной жизни и национальных движений, борьба против всякого национального гнета, создание национальных государств. Экономическая основа национальных движений состояла в том, что для полной победы товарного производства необходимо завоевание внутреннего рынка буржуазией, необходимо государственное сплочение территорий с населением, говорящим на одном языке. Вторая тенденция: развитие и учащение всяческих сношений между нациями, ломка национальных перегородок, создание интернационального единства капитала, экономической жизни вообще, политики, науки и т.д. Обе тенденции суть мировой закон капитализма. Первая преобладает в начале его развития, вторая характеризует зрелый капитализм, идущий к своему превращению в социалистическое общество (См. ПСС, Т. 24, С. 124 и Т. 25, С.258).
Считал ли Ленин первую тенденцию исключительно прогрессивной, а вторую - исключительно реакционной? Нет, не считал. Даже наоборот, вторая тенденция более прогрессивна, ибо характеризует, по Ленину, зрелый капитализм, идущий к своему превращению в социалистическое общество. О реакционности, стало быть, говорить не приходится. С Лениным можно не соглашаться, но зачем приписывать ему прямо противоположное тому, что он думал, говорил и в соответствии с чем он выстраивал свою политическую линию? Капитализм угнетает нации и на ранней (национальной), и на империалистической, и, добавим, на современной, глобалистской, стадии своей эволюции. Но капитализм создает объективные предпосылки ликвидации своего господства - социального и национального освобождения. Только это и говорится у Ленина. Тезис же о том, что классовый подход, основан на материализме и политэкономии, а цивилизационный подход - на загадочной «социокультуре» и духовности, просто не заключает в себе никакого содержания. А «соединение» обоих подходов - это просто беспомощная эклектика.
В защиту этой эклектики товарищ В.С. Никитин выражает сожаление по поводу того, что «в партийных докладах очень редко звучит термин цивилизация, в то же время наши соперники уже давно опираются на этот масштаб оценки событий». Могу еще от себя добавить, что наши соперники давно уже опираются на такой масштаб оценки событий, как «Господь Бог». Не прикажете ли и на него опереться? Если уж вы полагаете уместным употребление понятия «цивилизация», то уточните, пожалуйста, что вы под ним понимаете. Данилевский, Тойнби и Хаттингтон не обязаны были этого делать, ибо марксистами и ленинцами никогда себя не считали и не именовали. Но в марксистской системе понятий «цивилизация» есть характеристика классового и рыночного общества в противоположность «варварству» как обществу доклассовому и дорыночному. См., например, у Энгельса: «Цивилизация является той ступенью общественного развития, на которой разделение труда, вытекающий из него обмен между отдельными лицами и объединяющее оба эти процесса товарное производство достигают полного расцвета и производят переворот во всем прежнем обществе».
Допустим, вы не согласны с Энгельсом и считаете, что необходимо ввести другое определение цивилизации. Пожалуйста, вводите, это ваше полное право! Но тогда оговорите и уточните это особо. Укажите, в частности, чье определение вы берете на вооружение - Данилевского, Тойнби или Хаттингтона, потому что без таких оговорок и уточнений науки не существует, а остается одно краснословие.
***
Ленин указывал, что «значение лозунга «национальной культуры» определяется не обещаниями и добрыми намерениями... Значение лозунга национальной культуры определяется соотношением всех классов данной страны и всех стран мира». В эпоху, в которую жил и действовал Ленин, соотношение всех классов данной страны и всех стран мира определило следующее объективное значение лозунга национальной культуры: «С точки зрения социал-демократии недопустимо ни прямо ни косвенно бросать лозунг национальной культуры. Кто защищает лозунг национальной культуры, - тому место среди националистических мещан, а не среди марксистов» (т. 24, с. 122). Почему же? «Этот лозунг неверен, ибо вся хозяйственная, политическая и духовная жизнь человечества все более интернационализируется уже при капитализме. Социализм целиком интернационализирует ее. Интернациональная культура, уже теперь создаваемая пролетариатом всех стран, воспринимает в себя не «национальную культуру» (какого бы то ни было национального коллектива) в целом, а берет из каждой национальной культуры исключительно ее последовательно демократические и социалистические элементы» (т. 23, с. 318). Написано в 1913 году.
Разумеется, цитатами вообще и, особенно цитатами такого срока давности ничего доказать нельзя. Положим, эта характеристика сегодня устарела. Но это требует разъяснения. Обратимся к фактам современности.
Нельзя закрывать глаза на то, что 20 лет тому назад во всех без исключения республиках и автономиях СССР капиталистическая реставрация начиналась и совершалась именно под лозунгом защиты национальной культуры. Это исторический факт. Либеральное движение было неразрывно слито с движением националистическим. От Азербайджана до Эстонии, от Адыгеи до Якутии. Везде лозунг национальной культуры означал лозунг изгнания «советских оккупантов» и русских «мигрантов». Вспомним: Сначала национальная культура. Затем республиканский хозрасчет. Потом «чемодан - вокзал - Россия». И, наконец, снос памятников и воздвижение монументов эсэсовцам.
Буржуазные либералы и националисты действовали повсюду единым фронтом. Только в России случилась некоторая заминка. Либеральные антисоветчики Сахарова и черносотенные антисоветчики Солженицына не ужились и стали обзывать друг друга детьми Шарикова и жидомасонами. Но, если внимательно присмотреться, серьезных разногласий между ними не было. Таким образом, главным двигателем разрушения Союза и прогрессирующего распада России стал воинствующий национализм, который нагнетался самыми провокационными способами.
Что изменилось с тех пор? В четырнадцати бывших республиках не изменилось ничего - национализм как шествовал под ручку с либерализмом, так и продолжает шествовать. Буржуазия не может подниматься ни под какими другими флагами, кроме национальных и либеральных. Поэтому национал-либерализм («национал-оранжизм») - естественное мировоззрение поднимающейся буржуазии. Изменилась лишь ситуация в России. От нарочитого космополитизма правящий либеральный режим перешел при Путине к нарочитому национализму, утверждающему, что все наши беды происходят от тлетворного влияния Запада. И в этом тезисе большинство патриотов увидело выражение собственных мыслей, узрело свою «идейную победу». А непримиримая оппозиция стала жаловаться на «перехват лозунгов». И мало кто задался вопросом, а много ли стоят лозунги, которые так легко перехватить.
***
Очень легко утверждать, что разнообразные «Тату», «Серебро», «Бригады», «Дозоры» и пр. не принадлежат к русской культуре.
Принадлежат, еще как принадлежат!
Просто это, по Ленину, вторая культура. Патриот тешит себя иллюзией, что эта «другая культура» не имеет никаких объективных социально-экономических корней в его отечестве. Все это, мол, привозное, западное. Поэтому, в самых лучших случаях, демократической русской культуре противопоставляется исключительно эксплуататорская антидемократическая культура, или, как говорят, масс-культура. При этом утверждается, что первая - это исключительно русская, а вторая - исключительно западная, космополитическая, глобалистская. Получается явная передержка, неверная расстановка акцентов, уводящая от правильного понимания проблемы в область националистических заблуждений.
Верно кем-то подмечено, что для наших ксенофобов не «все инородцы - враги», а наоборот, «все враги - инородцы». Поэтому для них русские Ельцин, Яковлев и Лужков представляются евреями, а еврей Рохлин и немец Ульман - русскими. Как говорил один генерал у Салтыкова-Щедрина, «у немца всегда русская душа! О, если бы все русские обладали такими русскими душами, какие обыкновенно бывают у немцев!»
Система этнополитических координат не только ложная, но и крайне неустойчивая: ориентиры внутри нее непрерывно плавают. Вопрос в следующем. Будем ли мы идентифицировать врагов по признаку «русскости» или все же обратим внимание на классовые признаки антирусской активности? Если мы выберем второе, то далеко не факт, что «русская культура» будет нам подмогой в борьбе. Современную русскую культуру, воспевающую «прелести» царизма, столыпинщины и белогвардейщины, мы не должны и никогда не будем поддерживать. Для ее деятелей, возможно, и были «так упоительны в России вечера», а для большинства русского народа эти вечера регулярно заканчивались поркой на конюшне. Об этом можно прочесть хотя бы у Тургенева.
Тезис о том, что глобалистский космополитизм и соответствующая ему масс-культура не имеют, мол, никаких корней в современной русской национальной и государственной жизни, что все это, мол наносное, привнесенное, инородное и инородческое, - этот тезис неверный и опасный. Любовь к своему народу, своим предкам заключается не в пустозвонном славословии, а в трезвом взгляде на исторический путь народа.
Почитайте хотя бы статью знаменитого славянофила А.С. Хомякова «О старом и новом». Начинается она такими словами: «Говорят, в старые годы лучше все было в земле Русской. Была грамотность в селах, порядок в городах, в судах правда, в жизни довольство. Земля Русская шла вперед, развивала все свои силы, нравственные, умственные и вещественные. Ее хранили и укрепляли два начала, чуждые остальному миру: власть правительства, дружного с народом, и свобода Церкви, чистой и просвещенной».
А вот какими словами она продолжается: «Ничего доброго, ничего благородного, ничего достойного уважения или подражания не было в России. Везде и всегда были безграмотность, неправосудие, разбои, крамолы, угнетение личности, бедность, неустройство, непросвещение и разврат. Взгляд не останавливается ни на одной светлой минуте в жизни народной, ни на одной эпохе утешительной».
Это, заметьте, писал не западник, не русофоб, а самый что ни есть славянофил. Или это тоже Смердяков?
Еще цветы краснословия. «Редкий западный человек поймет духовные муки Родиона Раскольникова, приговорившего себя к нравственному пожизненному испытанию за убийство старухи-процентщицы. Не поймет типично западный (рыночный) человек, почему Достоевский устами Раскольникова называет святой Соню Мармеладову. В восприятии ее западным обывателем - она женщина с панели и только. Не поймет он, что такое святая грешность по Достоевскому. Русская духовная традиция - дать падшему возможность духовного возрождения. Нет этого в культуре частнособственнического Запада» (из статьи товарища Ю.П. Белова).
М-да... чего-то подобного и следовало ожидать от господства краснословия. Это, что называется, попасть пальцем в небо. Ну а культ путаны и «интердевочки», поразивший нашу духовную жизнь на рубеже 80-х - 90-х годов прошлого века, - разве это не прямое продолжение "духовных исканий" Достоевского относительно Сониной святости? А уж этот культ всеми патриотами единодушно признается тлетворным влиянием Запада на русскую культуру.
Кроме того, не следует забывать и о том, что за 1900 лет до создания образа Сони Мармеладовой в религиозном предании возник такой персонаж, как Мария Магдалина. Дать падшему возможность духовного возрождения - не только русская, а вообще христианская традиция. Только в России и в Европе милость к падшим облекалась в разные формы. Пока в России интеллигентные завсегдатаи борделей рассуждали о «святой грешности», в Европе уже создавались первые профсоюзы проституток - для борьбы за реальные человеческие права и здоровье "падших созданий" и, в первую очередь, для борьбы против института сутенерства. Между прочим, создание профсоюзов проституток в России приветствовал не кто иной, как Ленин.
Но вернемся к Достоевскому как самому близкому и понятному европейскому сознанию писателю. Все его литературные герои и их переживания предельно, почти до полного тождества, близки героям хотя бы Стендаля и Бальзака. Таковы пары: Жюльен Сорель и Алеша Карамазов, Рафаэль де Валантен и Аркадий Долгорукий. А уж о Раскольникове со Ставрогиным и говорить не приходится. Считать их воплощением специфически русского «духовного искательства» могут только очень наивные люди, возможно, даже не читавшие «Преступления и наказания» и «Бесов», а знакомые с ними по каким-то сомнительным изложениям, скорее всего, западным. Дело в том, что Западу всегда было интересно в русской культуре то, в чем Россия отставала от него лет на 50, - в становлении буржуазного (мещанского, говоря по-русски) общества. А вот тем, чем Россия опережала Запад, он не интересуется до сих пор, считая это пережитками варварства, хотя из этих «пережитков» и вырос русский социализм. Именно поэтому Запад считает Достоевского величайшим русским писателем, отказывая в этом статусе, например, Пушкину.
Сказанное нисколько не умаляет художественного гения и значения Достоевского, но и не отменяет того факта, что он - певец городского мещанства, хотя бы и униженного и оскорбленного. Главное, что начисто отсутствует в его творчестве, это ключевое действующее лицо современной ему русской истории и общественной жизни - русский крестьянин. Хотя в своей публицистике он много и бесплодно рассуждал о «народе-богоносце», «сеятель и хранитель» так и остался для него тайной за семью печатями.
Достоевский - классический западник, но ничего порочащего в этом, конечно, нет. Есть просто исторически обусловленная «идейная ограниченность». А у кого ее не было? Она была, и даже в большей степени, чем у Достоевского, у Льва Толстого. Но крестьянский голос Толстого привел его в итоге к отлучению от церкви, а урбанизм Достоевского, наоборот, - к казенной «воцерковленности». Поэтому прежде чем ставить обоих писателей в один почетный ряд по разряду духовности, не худо было бы разобраться, в чем их сходство, а в чем и кричащее различие. Без этого мы будем не марксистами и не ленинцами, а обыкновенными либеральными присяжными поверенными типа Балалайкина.
Еще перл из статьи товарища Ю.П. Белова: «Нет в русской литературе ни одного нравственного героя из буржуа».
Это почти верно, если... если только не считать того же Раскольникова, купца Калашникова, Платона Каратаева, Базарова, чеховских Лаптева и Полознева, горьковского Фомы Гордеева. А Григорий Мелехов - он какой герой, нравственный или безнравственный?
И, вообще, что такое «нравственный герой» - исключительно Ахилл, Байяр или еще какой-нибудь «рыцарь без страха и упрека»? Возможен ли и существовал ли когда-либо нравственный герой, не раздираемый острейшими внутренними противоречиями?
И, вообще, что такое буржуазность и антибуржуазность: пореформенное русское крестьянство, например, - это буржуазия или кто? Первая русская революция - это революция буржуазно-демократическая или какая? Лев Толстой - это чей идеолог?
А много ли нравственных героев из буржуа в западной классической литературе? Демократическая культура Запада ничуть не менее антибуржуазна, чем демократическая русская культура. Попробуйте-ка найти культ наживы хотя бы у Чарльза Диккенса! А ведь это писатель стопроцентно буржуазный. Но прославления мистера Домби у него нет и в помине. А есть, наоборот, острая беспощадная критика. Или, может быть, Голсуорси воспел Форсайтов, Бальзак - Гобсека, Томас Манн - Буденброков, Драйзер - Фрэнка Каупервуда?
Впрочем... есть один чисто буржуазный герой, причем такой, на безусловном положительном примере которого выросло не одно русское и советское поколение. Это Робинзон Крузо - авантюрист, купец, работорговец и плантатор, словом, классический хищник эпохи первоначального накопления и колониальных набегов. Но, оказавшись в экстремальных условиях необитаемого острова, он обнаружил и другую сторону своей буржуазности - потрясающий жизненный оптимизм и превосходящее всякое воображение трудолюбие. Разве эти качества не ценнейшее достояние всего человечества на все будущие времена? Или Даниель Дефо целиком выдумал этот литературный образ «за ради пропаганды»? Нет, если бы Робинзон был выдуман, его забыли бы через неделю. А его будут помнить и через века.
Правда, чтобы дать простор проявлению этих замечательных качеств «протестантской этики», Дефо должен был поставить своего героя на грань жизни и смерти - «бездны мрачной на краю», как сказано у Пушкина. Но это обычное свойство человеческой личности - ее лучшие качества проявляются именно «в минуты роковые». В иных, более спокойных условиях героическая «протестантская этика» вырождается в лицемерную «мораль пани Дульской».
Так что антибуржуазностью следует гордиться отнюдь не всегда - бывает, что она ведет как раз не к гуманизации бытия, а к озверению.
Понять это мешают несколько чисто азиатских предрассудков, доставшихся нам от древности и возведенных в современную добродетель. Коротко о главных из них.
Вряд ли кто станет спорить с тем, что сегодня главнейшая боль России – даже не обнищание народа, а чудовищный дефицит общественной солидарности. Как ее восстановить, где ее искать? Некоторые националисты (тот же лидер ДПНИ Поткин) призывают брать пример с евреев. Построить Россию по образцу современного Израиля, законодательно обозначив особые права русских и православия по сравнению с другими национальностями и конфессиями. Искать будущего позади, в русской крестьянской общине и якобы наполнявших ее и всю русскую историю и культуру соборности, духовности и коллективизме.
Как писал Маркс в своих знаменитых статьях о британском владычестве в Индии, эти идиллические сельские общины всегда были прочной основой восточного деспотизма, они ограничивали человеческий разум самыми узкими рамками, делая из него покорное орудие суеверия, накладывая на него рабские цепи традиционных правил, лишая его всякого величия, всякой исторической инициативы.
Да, существовала, как выразился Глеб Успенский, «поэзия крестьянского труда». Но та же поэзия означает одновременно и чудовищный квиетизм, полную аполитичность, веру в домовых, водяных, леших, в целительную силу таскания жен за волосы, в доброго царя и злых бояр, а также в то, что «во всем виноваты жиды»,
Дефицит солидарности есть одна из сторон русского национального бытия - противоречивое производное именно от общинного существования. Низкая личная солидарность русских есть оборотная сторона высокого русского патриотизма. Беззаветная, переходящая в самопожертвование верность ПЛЕМЕНИ, и равнодушие к отдельным СОПЛЕМЕННИКАМ. Невысокая оценка личности, человеческой жизни вообще. Да, это парадокс, но это реальность. Она отмечена даже в сталинском тосте за здоровье русского народа: мол, другой народ давно бы уже прогнал бы такое правительство, как наше. Достоинства - продолжение недостатков, и наоборот. Нельзя закрывать глаза на такие противоречия.
Но одно дело констатировать противоречия, и совсем другое - любоваться слабыми сторонами.
«Равнодушие, а точнее бездушие, порождаемое властью, как проказа, поражает, прежде всего, добрых и отзывчивых по природе своей русских людей». Уважаемый автор! Вы хоть соображаете, что говорите??? Равнодушие поражает, прежде всего, отзывчивых!!! Ну не бред ли? Из ваших слов прямо следует, что доброта и отзывчивость предрасположены к равнодушию и бездушию, и что русский народ, как преимущественный носитель этих качеств, наиболее подвержен «тлетворному влиянию Запада». И за что же вы так унижаете свой народ?
Увы, это не единственный пример презрения к своему народу, скрытого под маской барского сочувствия. Вот еще потрясающее высказывание: «Судьба маленького, униженного и оскорбленного человека, того же пушкинского станционного смотрителя и гоголевского Акакия Акакиевича Башмачкина, сегодня - судьба миллионов» (из статьи товарища Ю.П. Белова).
Это что-то гениальное! Если сегодня миллионы русских людей - не более чем маленькие униженные и оскорбленные смотритель с Акакием, то это смертный приговор России, полный и окончательный. Почему вы вспомнили у Пушкина и Гоголя именно этих двух ничтожных персонажей, а не Пугачева и Тараса Бульбу? Да и аналогии выбраны никуда не годные, исторически нелепые. Ведь сегодня станционный смотритель - это всемогущий гаишник. А современный Акакий Акакиевич передвигается из дома на службу и обратно минимум на «Ауди», а уж о максимуме с мигалкой и говорить не приходится.
Конечно, «нет уз святее товарищества! Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, не было таких товарищей». Но обратите внимание, кто это сказал! - вольный казак Тарас Бульба, который и слыхом не слыхивал ни о каких общинах и прочих формах крепостничества и кабалы.
Как считал Ленин, поземельная община на три четверти является фискально-крепостнической обузой. Суть общинного землепользования сводится к двум основным моментам. Во-первых, круговая порука по налогам, долгам и рекрутскому набору. Это свидетельство неразвитости государственной машины - за неимением разветвленного фискально-полицейского аппарата, его функции были возложены на само «общество», или, как сегодня модно писать, на «мiр». Во-вторых, регулярный передел земельных угодий под индивидуальную запашку. Кто-то подумает, что это и есть самый высокий и бескорыстный коллективизм. А на самом деле это замечательно эффективный способ держать «коллективистов» в постоянной вражде и перестрелке. Первобытно-средневековая община - не совхоз и не колхоз. Это институт объединения и разъединения одновременно. Наглядное осуществление римского принципа "разделяй и властвуй". Экономика - разъединяет, политическая власть - объединяет. Именно эти особенности общины определили и ряд особенностей русского национального самосознания. Слабая межличностная солидарность и сильная подчиненность «целому».
Общину в русском «мiре» не только открыли, но и впервые научно прокомментировали все те же представители «гнилого Запада». В одном из вариантов письма к Вере Засулич Маркс писал: «Изолированность сельских общин, отсутствие связи между жизнью одной общины и жизнью других, этот локализованный микрокосм повсюду, где он встречается, он всегда воздвигает над общинами централизованный деспотизм». Однако Маркс полагал, что именно русская сельская община имеет шанс на более широкий простор для развития. Он считал, что «в России эта изолированность, первоначально обусловленная огромным протяжением территории, является фактом, который легко будет устранить, как только правительственные путы будут сброшены». О том же самом писал и Ленин: «Общину, как демократическую организацию местного управления, как товарищеский или соседский союз, мы безусловно будем защищать от всякого посягательства бюрократов».
Итак, как марксизм, так и ленинизм считает плодотворное, социалистическое, развитие общинного начала возможным только при условии сброса правительственных пут. Наши же апологеты общины, наоборот, восхваляют ее за то, что она является незыблемым фундаментом «государственности» и, стало быть, прочности правительственных пут.
Приплести Ленина к восхвалению азиатских «прелестей» общины не получится. Факты свидетельствуют как раз об обратном. В качестве экономического института Ленин считал общину таким же пережитком средневекового крепостничества, как и помещичье землевладение. И в этом он был солидарен с самим русским крестьянином. Аграрные требования крестьянства во всех трех русских революциях заключались в национализации земли, то есть в уничтожении обоих крепостнических институтов: как помещичьего землевладения, так и кабальной общины.
***
Море чернил пролито в доказательство того, что необходимым условием одоления смуты является сильная государственная власть. Однако отечественная история подсказывает нам, что силы государства недостаточно для того, чтобы возродить страну. Ибо сильной может быть и кровавая диктатура, централизованным - бюрократический тоталитаризм и бонапартистская полицейщина, душащая трудящихся.
И кто вам сказал, что национализм обязательно сводится к державным, «имперским» идеям? Наоборот, сегодня заметно набирает силу национал-анархизм, считающий главным врагом русского народа, многовековым душителем его свободы и демократии - именно историческое российское государство, включая русскую православную церковь как его неотъемлемую составную часть. Он утверждает, что это государство создано не русским народом, а монголотатарскими завоевателями - Золотой Ордой. Финалом борьбы ордынцев с русской демократией стала резня, устроенная Иваном Грозным в Новгороде Великом, когда тысячи трупов новгородских граждан было сброшено в Волхов, его воды стали красны от крови на протяжении 30 верст. Великая русская экспансия в Евразии объясняется именно бегством свободолюбивого люда - казаков от московской деспотии. За ними гнались сборщики дани - баскаки, а они убегали еще дальше, пока не дошли Чукотки, Аляски и Калифорнии. Туда баскаки уже не могли добраться и потому продали Русскую Америку Соединенным Штатам.
Между прочим, этого взгляда на суть Московского царства и его взаимоотношений со своими подданными придерживался такой авторитетный в патриотической среде историк, как Василий Ключевский. Он писал, что «Московский народ выработал особую форму политического протеста: люди, которые не могли ужиться с существующим порядком, не восставали против него, а выходили из него, "брели розно", бежали из государства. Московские люди как будто чувствовали себя пришельцами в своем государстве, случайными, временными обывателями в чужом доме; когда им становилось тяжело, они считали возможным бежать от неудобного домовладельца».
В этой позиции много правды, и у «чистых» националистов-государственников не находится против этой теории серьезных аргументов, кроме восхваления кнута на том основании, что это кнут «исторический».
***
Очень опасно и некритичное отношение к религии вообще и к православию в частности. Это будто бы главный духовный родник русского народа во все времена.
Да, Россия, как и другие европейские страны, прошла через период, когда культура была вынуждена рядиться в религиозные одежды. Но времена эти давно уже прошли. В России это случилось с отставанием от Европы на 200 лет, но тоже достаточно давно - при Петре Первом. А ведь еще в царствование его отца патриарх Никон в изуверском порыве запретил любые проявления светской культуры и искусства, как «богомерзкое скоморошество». «Скоморошество» пришлось возрождать, в том числе и с помощью Запада, от которого Русь была отрезана монголотатарским игом. У нас же сейчас в ходу теория, что угроза с Запада страшнее нашествия татар. Потому что татаромонголы не посягали, мол, на православную веру, культуру русских. Западные же страны в своей агрессии против Руси всегда добивались не только политического и экономического, но и духовного порабощения русских. И первым, кто это открыл, был Александр Невский.
Что же касается Александра Ярославовича, это абсолютно верно - он, действительно, осознал угрозу. Но только автор забыл уточнить, для КОГО Запад всегда был хуже татарина. Для попов и князей. Татаромонголы не посягали на доходы церкви - от обязанности платить им дань было избавлено только православное духовенство. За это оно ежедневно возносило в церквах публичную молитву за здравие золотоордынских ханов. А вот откуда следует, что татаромонголы не посягали на русскую культуру, непонятно. Есть же ведь и объективные данные на этот счет! Многие исторические и археологические источники (летописи и берестяные грамоты) свидетельствует о том, что до монгольского нашествия взрослое население Киевской и Новгородской Руси было практически поголовно грамотным. А 300 лет спустя грамотность осталась лишь в стенах монастырей. То есть можно сказать и так: татаромонголы помогли церкви отделить народ от культуры и монополизировать грамотность. Это больше похоже на коллаборационистскую, нежели на культурно-просветительскую деятельность.
Татаромонголы не посягали, прежде всего, на феодальные права русских князей в отношении их смердов. Они вмонтировали их в систему собственной власти. А что касается веры, зачем монголотатарам было на нее посягать, если эта вера и культура очень даже способствовали материальному порабощению?
***
Но вернемся к современности и сегодняшним особенностям становления национального самосознания. Вот показания очевидца, побывавшего в Кондопоге. «Игорь и Сергей - молодые, но уже семейные, серьезные люди. Они трезво оценивают день сегодняшний и всерьез озабочены завтрашним днем. Они не просто возмущаются перекосом в национальных, экономических и социальных отношениях, вызвавших кондопожский бунт, но имеют продуманный план действий по защите интересов кондопожан. Они считают, что в городе необходимо создать славянский рынок, на котором местное население сможет реализовать продукты собственного труда, в том числе выращенный своими силами урожай. Не нужно никаких посредников и перекупщиков. Торговля должна быть честной и справедливой и вестись в интересах коренного населения, а не для наживы «чужаков».
Таким образом, РЫНОК, столь презираемый поборниками общинности и духовности, - вот место рождения современной «русской национальной солидарности»! Она есть плод буржуазного развития - явление не этническое, не племенное, а классовое. Поводом к восстанию ущемленного национального самолюбия стало вовсе не засилье западной масс-культуры на телевидении и радио, а вполне прозаический вопрос о разделе торговых мест. И именно в этой плоскости «рост национального самосознания» был немедленно поддержан президентом и правительством.
Ни в чем не хочу заподазривать ни Игоря с Сергеем, ни президента с правительством, но предложенная ими программа почти дословно совпадает с одним из пунктов программы НСДАП - гитлеровской нацистской партии. «Славянский» рынок... Представители скольких славянских народов проживают в Кондопоге и ее окрестностях? Русские, украинцы, белорусы, ну, может быть, еще поляки. Итого четыре. А в 60-70-е годы Кондопога была Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, на которой бок о бок трудились молодые строители 42 национальностей, тысячи посланцев из всех братских республик Советского Союза. Итого получается 38 инородческих неславянских национальностей, которым доступ к торговле на славянском рынке будет закрыт.
Мечты о «честной и справедливой» торговле «без посредников и перекупщиков» суть мечты о позднем неолите, об эпохе разложения родового строя, когда посредничество и перекупка еще не превратились в общественно необходимую профессию. Это то же самое, что мечтать о публичном доме без секса. Патриотические идеологи, включая некоторых левопатриотов, приветствуют и Кондопогу, и общину, то есть одновременно произносят тосты за здравие и за упокой, справляют именины и на Антона и на Онуфрия.
Итак, налицо ДВА пути. Оба проторены истории и сыграли свою роль. У обоих свой собственный баланс достоинств и недостатков. Здесь сошлись друг против друга Обломов и Штольц.
А есть ли третий альтернативный путь развития русского национального самосознания, помимо вздохов о соборности и духовности и борьбы за место на рынке? Вот это реальный вопрос для политической партии, а не культурологического кружка. Но пока этот вопрос не то что не решается, он даже не понят и не сформулирован. А ведь этот путь есть и не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы его понять. Он подсказан историей и уже проторен в истории.
Национальная гордость великороссов потребовала в один из критических моментов русской истории поражения царского правительства в империалистической войне. Не по-холопски понятый интерес великороссов совпадает с классовым социалистическим интересом пролетариата - так формулировал Ленин. Поэтому КПРФ не сделала никакого великого открытия, когда занесла этот тезис о соединении борьбы социально-классовой и национально-освободительной борьбы в свою Программу.
Но сколько же «новых теорий» нагромождено по поводу этого старого тезиса! Нетвердые в азбуке ленинизма деятели поняли этот тезис с точностью до наоборот.
Спасать ли русский дух социализмом, или, наоборот, социализм - русским духом. Это как раз тот случай, когда арифметический закон коммутативности не действует. В политике от перемены мест слагаемых сумма часто меняется, и даже очень.
***
Попробуем разобрать с этой точки зрения хотя бы одну реальную проблему. Например, цену на российский газ для братской Белоруссии. Читаем сетования товарища В.С. Никитина на то, что «Действия Газпрома пронизаны западным духом наживы, а не русским духом державности, славянского братства, разумного достатка и справедливости». Это похоже на циркуляры щедринского помпадура Феденьки Кротикова, сетовавшего на то, что во вверенном его попечению Навозном крае «в торговле главным двигателем является не благородная и вполне согласная с предписаниями политико-экономической науки потребность быть посредником между потребителем и производителем, а гнусное желание наживы».
Обвинение справедливое. Но как же нам отвратить Газпром от гнусного западного духа наживы и пронизать его русским духом державности, славянского братства, разумного достатка и справедливости? Если все дело в «духе», то надо Миллера сначала окрестить, потом отвести в музей Рублева или в Третьяковку и, главное, не давать ему ни виски, ни Кока-колы. А поить исключительно водкой и квасом под малиновый звон. А если Миллеру это не поможет, заменить его на какого-нибудь "Мельника". Рецепт хорош, но вряд ли им возможно воспользоваться на практике.
А вот еще перл из статьи товарища В.С. Никитина: «Чтобы жить счастливо, нужно сменить западную демократию на русское народовластие, вместо власти богатых установить власть лучших и жить по законам не западной, а русской цивилизации. Это значит - жить по правде, в мире и согласии, поступать по совести, решать по справедливости, получать по труду, творить добро, искоренять зло и стремиться к совершенству, к гармонии человека, общества и природы, к дружбе народов. Тогда будет и в России благодать. Тогда Россия станет ядром мощного Русского Мира. Его историческая миссия - прекратить войну цивилизаций и спасти нашу планету Земля от гибели».
Получать по труду - это хорошо! А вот трудиться-то где, как и, главное, на кого? И что надо делать, чтобы получать по труду, а не по стоимости своей рабочей силы? Этот вопрос в «формулу русской цивилизации» почему-то не включен, хотя он отнюдь не второстепенный. Несколько позже товарищем В.С. Никитиным сформулирована дилемма: «Может ли Разум выиграть в схватке с Капиталом?» Со времен «Коммунистического манифеста» мы привыкли думать, что ключевым противоречием капитализма является противоречие Труда и Капитала. Но нет, это воззрение, оказывается, устарело.
Не нашлось в «формуле» и места для такой категории человеческого бытия, как «свобода», «воля».
Что такое власть богатых, все хорошо знают. А что такое власть «лучших», являющаяся будто бы атрибутом русской цивилизации? Временных рамок этой цивилизации автор не обозначает, но, очевидно они охватывают не менее тысячелетия. То есть «лучшие» - это удельные князья, великие князья, бояре, цари, императоры, графы, бароны, губернаторы, предводители дворянства, городничие, городские головы, исправники, квартальные надзиратели, становые и частные приставы, будочники.
***
Какова же общая интенция вышерассмотренных «прозрений»? А вот какова.
Хорошо известно, что в последние годы КПРФ пользуется все более возрастающей поддержкой в крупных городах, в более материально состоятельных, образованных и культурных слоях. Отвратить эти слои от симпатий к Компартии можно одним способом: представив коммунистов мракобесами, поклонниками всяческих оккультизмов и прочих завиральных идей. И как только такая задача возникла, так сразу же явились на свет её добровольные и полудобровольные исполнители. Претендующие к тому же на роль новой инквизиции, блюстителя идейной чистоты и правоверия коммунистов.
Научный запас новых инквизиторов, как я попытался показать выше, ничтожен. Ничего кроме гомерического смеха он вызывает.
Не удовольствовавшись открытием «культа Ра», товарищ В.С. Никитин утверждает: «Наши предки в отличие от Запада рассматривали Мир не как «Универсум», т.е. материальный склад сырья и товаров для безграничного потребления их человеком, а как единый материально-духовный Космос, как гармонию человека, общества и природы. В трудные времена они черпали из Космоса духовную энергию для противостояния агрессорам и всегда побеждали. Надо изучить их опыт для борьбы с нынешним западным игом. Российские ученые глубоко познавали Космос и не случайно первыми из землян вышли в него именно представители нашей страны. Ученые доказали, что жизнь на нашей планете создана Космосом из материи Земли и энергии Солнца. Она представляет собой двойственный энергоматериальный процесс пульсирующего превращения энергии в материю и наоборот. Первичным элементом всех живых существ биосферы является клетка, управляемая энергией Космоса (электромагнитными полями, летящих и вращающихся планет) и питающаяся энергией солнечного света... Ряд российских ученых утверждает, что свойственный индустриальной эпохе и наиболее соответствующий миропониманию Запада чисто материалистический период развития земной цивилизации завершается. Он выполнил свою созидательную роль в истории человечества: изучена структура материи, созданы инструменты, приборы, механизмы, системы электронного управления, осуществлен прорыв в космос. Но дальнейшее одностороннее развитие человечества по принципу, что материя первична, а сознание человека вторично уже не в полной мере соответствует истине» Псевдонаучные построения нынешних «обновителей» русской идеи были высмеяны еще Лениным почти сто лет тому назад в книге «Материализм и эмпириокритицизм. Критические заметки об одной реакционной философии». За прошедшее с тех пор время настоящие, а не воображаемые науки не обнаружили ни одного объективного факта в пользу заключений эмпириокритицизма и его современных последователей.
Пора подумать о том, почему чисто англосаксонскую «энергетику» Оствальда уже во второй раз за истекшие сто лет некоторые принимают за исконно-посконный «русский дух». И эти духом собираются «лечить» социализм.
***
Что же в итоге? Ничего не приходит на ум, кроме слов дедушки Крылова: «Услужливый дурак опаснее врага». Комментировать дальше, увы, нет ни сил, ни времени. Выборы на носу.
Давайте обсудим ваш вопрос или заказ!
Отправьте нам свои контактные данные. Мы с вами свяжемся, проконсультируем и обязательно предложим интересное и подходящее под запрос решение по направлению услуги