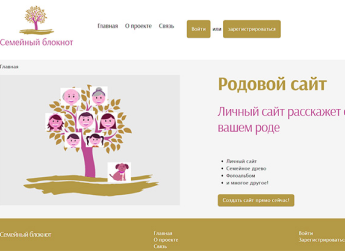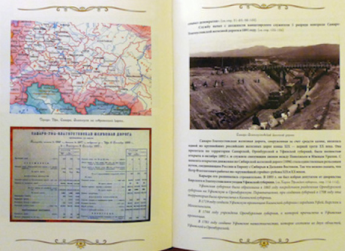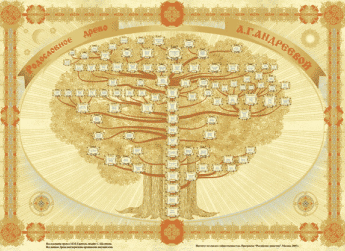Лифляндские казаки
| Лето 1812 года. Наполеон наступает на Москву, а маршал Макдональд — на Ригу. Русские армии откатываются под натиском вдвое превосходящего по численности врага. Александр I обращается к дворянству с манифестом, призывая создавать ополчение в помощь армии. В российских губерниях бодро откликнулись на призыв императора, только московские помещики дали 80 тысяч крестьян. Нашелся энтузиаст и у нас — это был Фридрих Сиверс, курляндский губернатор, вынужденный эвакуироваться после захвата Митавы прусской дивизией Макдональда. "Составим конницу, вооружим каждого 25–го человека. Да одушевит нас дух славных предков наших, рыцарей, которые в Вендене взорвали себя в воздух с величайшим хладнокровием… Умрем или победим!"
Напоминание об эпизоде в Вендене (Цесисе) было не вполне политкорректным, поскольку он относился ко времени осады Вендена русскими. Но в целом послание Сиверса лифляндскому дворянству было встречено российскими властями сочувственно. Чего не скажешь о самом дворянстве. "Дворянство опасалось чрезмерных расходов, а латышское население, забитое и невежественное, было равнодушно к судьбе своего отечества, — писал историк Сивицкий. — Суровое крепостное право развило в латышах привычки рабства и полное отсутствие гражданского долга и чести. Они не имели желания подобно русским крестьянам вести партизанскую войну против неприятельских фуражиров, часто переходивших Двину… У некоторых было желание воспользоваться присутствием неприятеля, чтобы сбросить бремя крепостного права, к чему призывал их манифест Наполеона". Рижский мемуарист пастор Граве по поводу последнего замечания рассказывает такую историю: "Однажды отряд пруссаков нашел в корчме толпу крестьян, которые встретили их с восторгом и говорили на своем языке, что они желают сбросить свое теперешнее иго и просят помочь им. Не понимавший латышского языка офицер спросил у немца–хозяина, о чем говорят крестьяне. Хозяин объяснил, будто они кричали: "К черту всех французов и пруссаков!" Понятно, что офицер отряда приказал бить крестьян прикладами, а те выбежали из корчмы с криком: "Если так, то пусть у нас будут прежние господа!" Если бы не сообразительность хозяина, то, вероятно, не одно имение было бы сожжено и разграблено". В общем, низы были солидарны с верхами — воевать с французами мало кто хотел. В итоге лифляндский ландтаг порешил выставить одного ополченца со 100, а не с 25 крепостных душ (это при том, что в Московской губернии мобилизовывали каждого десятого!). Всего собрали 2076 человек. Назвать ополчение решили лифляндскими казаками. Предполагалось, что, наскоро обучившись верховой езде и владению пикой, они смогут нести службу на передовых постах и совершать рейды в тыл врага. Однако когда Сиверс увидел это воинство, собранное в Вольмаре (Валмиере), то ахнул — оно даже отдаленно не напоминало "казачье". "Неспособность людей состоит в 50- и 60–летнем возрасте, струпьях, слабости сил и малом росте; неспособность лошадей состоит в том, что они имеют 15, 20 и более лет и не способны даже к драгунской службе, а тем менее еще к легкой кавалерийской". Поскольку обуви у них тоже не было, то по прибытии в Ригу генерал–губернатору Эссену пришлось выдать им несколько шкур с убитого скота — на ботинки. Между тем наступила морозная осень, без теплой одежды использовать ополченцев в полевых операциях было невозможно. Их послали на строительство рижских укреплений. Босые, голодные и злые, они массами бежали в ближайшие леса, а то и к неприятелю. Назначенный "атаманом" лифляндских казаков Сиверс — инициатива во все времена была наказуема — с трудом сформировал первую конную сотню, но 4 ноября в бою под Фридрихштадтом (ныне Яунелгавой) она в полном составе сдалась в плен пруссакам. Сиверс послал было на фронт наскоро сколоченную вторую сотню, но начальник отряда, в который она попала, категорически потребовал забрать ее у него к чертовой матери. "Казаки" оказались "наги и совсем босы" и стали перебегать с аванпостов к пруссакам. Видя такое дело, Сиверс решил распустить ополченцев от греха подальше по домам, а из самых лучших сформировать Лифляндский казачий полк в 800 сабель. Сказано — сделано: в ноябре последовало высочайшее монаршье соизволение. В помощь было послано 12 унтер–офицеров из кавалерийских полков регулярной армии, которые должны были превратить латышских крестьян в казаков. О результате спустя два месяца рижский комендант Эмме доносил новому генерал–губернатору маркизу Паулуччи: "Из 800 человек, долженствующих состоять по списку, в наличности имеется 188, прочие же в разных госпиталях… Офицеров недостаточно, а которые есть, и к пехотной службе мало пригодны, кольми паче к кавалерийской". Резюмируя, Эмме предложил полк уничтожить, "дабы тем прекратить истребление новых сумм". А надо сказать, что только лифляндскому дворянству содержание полка стоило 328 тысяч рублей, да и казне влетело в копеечку. И вот когда ополченцы из русских губерний вливались в кадровые части, готовившиеся к Заграничному походу 1813 года, лифляндский казачий полк бесславно канул в Лету. "Название "лифляндские казаки" звучит как "деревянное железо", — иронизировал по этому поводу пастор Граве. — Можно одеть латышей и эстов в синие кафтаны и дать им в руки пики. Но сделаются ли они от этого казаками?" А майор Кильхен утешал расстроенного Сиверса рассуждениями о том, "сколь латыши наклонны к побегу и сколь трудно искоренить в них предрассудок против воинской службы даже тогда, когда они получают хорошую одежду и сытную пищу". Справедливости ради отметим, что тот же Граве сообщает, как близ Кокенгаузена на Двине береговые крестьяне организовали отряд и обращали в бегство мелкие партии пруссаков. А в Риге были организованы две добровольческие роты — поручиков Нирода и Шмидта, весьма успешно действовавшие в боях с противником. Впрочем, первая состояла в основном из немцев, а вторая — из русских приказчиков и извозчиков. Что же до латышей, то они в подавляющей массе своей сражаться не желали. И кто бросит в них камень, зная тогдашние порядки в Остзейских губерниях? Отсюда важный вывод: за сто лет российские власти в Прибалтике изменили ситуацию радикально. Отчаянная решимость, с которой бились под Ригой в 1915–1917 гг. латышские стрелки, свидетельствовала: им уже явно было что защищать и за что жертвовать своими жизнями. А Российская империя не была уже той "тюрьмой народов", о которой так страстно (хотя и не совсем уж бездоказательно) стали твердить и большевики, и улманисовский официоз. | |||
Давайте обсудим ваш вопрос или заказ!
Отправьте нам свои контактные данные. Мы с вами свяжемся, проконсультируем и обязательно предложим интересное и подходящее под запрос решение по направлению услуги