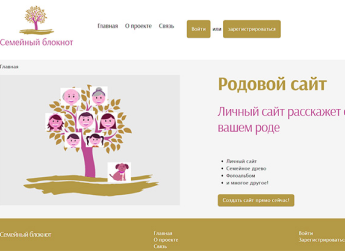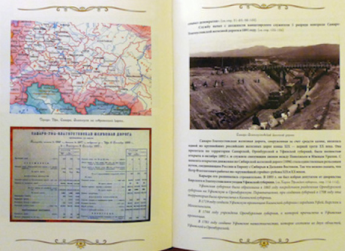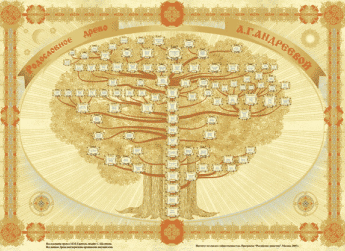Сын за отца
...А 22 июня весь этот наш незатейливый, но привычный мир рухнул...
Анатолий Андреевич Лисовский сам нашел меня по телефону, прочитав в «СБ» один из моих материалов. Мы встретились у него дома и долго разговаривали. Он рассказывал о своем отце, кадровом военном, и его нелегкой судьбе. Показывал документы, фотографии, сохранившиеся семейные реликвии. А еще параллельно вспоминал свое детство, которое пришлось на войну. Я не знаю, какой из рассказов Анатолия Андреевича интереснее. Сам он считает, что его судьба обычна и о ней можно говорить только в контексте истории отца. Мне же как человеку, войны не видевшему, обе истории показались интересными. Беру на себя ответственность и вначале рассказываю об Анатолии Лисовском, а затем о Лисовском–старшем.
Баски
До войны я только однажды отдыхал в пионерском лагере в Ратомке. А чаще всего лето проводил в городе. Ходили с мальчишками к стадиону «Динамо», это же совсем рядом с домом. Там забирались на деревья и смотрели футбол, а конная милиция нас гоняла. Ведь денег нам на билеты никто не давал. Сколько стоил билет, так я уже и не помню. А вот килограмм самых расхожих конфет «подушечек» стоил 2 рубля 20 копеек. Самая замечательная — это игра минской команды с басками. Когда трибуны заполнились и началась игра, мы слезли с деревьев и пробрались на стадион. Кто победил в том матче, так и не скажу. Давно это было. А вот сам факт удачного проникновения на стадион в память врезался.
В мяч летом играли, в лапту. Сейчас в лапту не играют. Из рогаток стреляли. Всякое было...
Боевое задание
А 22 июня весь этот наш незатейливый, но привычный мир рухнул. Вот как это произошло. Я вместе с друзьями–товарищами отправился на открытие Комсомольского озера. Туда собирался весь город, ведь все горожане участвовали в его строительстве. Всем пришлось ходить туда и с лопатами, и с тачками работать. Гурьбой мы вбились в трамвай. А доехали только до пересечения улиц Комсомольской и Советской, где раньше стоял универмаг. Наш трамвай остановился, так как улица была запружена народом. Готовились слушать выступление Молотова. Когда стало ясно, что началась война, настроение мгновенно изменилось. Мы, дети, сразу стали думать, а где сейчас родители, братья, сестры. Ведь я еще только шесть классов успел окончить, а тут такое. Когда вернулся домой, отца не было. Накануне он позвонил и сказал, что задерживается в штабе округа. А штаб находился тогда там, где сегодня пединститут. Мы попробовали с ним связаться, дома стоял телефон, но аппарат не отвечал. Потом отец рассказывал, что многих офицеров бросили на борьбу с немецким десантом, высадившимся между аэродромом и товарной станцией.
Короче говоря, уже вечером я встретился с друзьями. Мы все учились в 47–й Сталинской школе. Она находилась через двор от нашего дома. Жили мы тогда на улице Володарского, 26. Там сейчас комитет погранвойск. Фасадом школа выходила на улицу Свердлова, сегодня в этом здании Экономический университет. Так вот, мне и друзьям с нарочным прислали сообщение, чтобы 23–го мы явились в школу. Почему меня вызывали? Я состоял в Осоавиахиме. И вот мы получили боевое задание. Надо было вынести из здания школы во двор всю мебель. Школа предназначалась под госпиталь. С 23–го на 24–е мы работали всю ночь. Взрослых, кроме нескольких дежурных учителей, не было.
Волна за волной
Работали мы до семи утра. Вышли на газоны, легли и уснули мертвым сном. Я проснулся от того, что на меня сыпались комья земли. Оказывается, уже началась бомбежка Минска. Мы испугались. Начали смотреть в небо, а там, на небольшой высоте, эскадрильи самолетов. Все побежали прятаться в бомбоубежище. Ведь каждый из нас проходил подготовку. Я числился мотористом. К бомбоубежищу были приписаны жители нашего района. Всем раздавались карточки. Но когда начался налет, люди уже не смотрели на карточки, бежали, чтобы только скорее спрятаться, чтобы спастись. Все отсеки бомбоубежища оказались заполнены людьми. Вскоре стало тяжело дышать. Выяснилось, что воздуховоды, по приказу какого–то военного, закрыты заглушками. Боялись химической атаки.
Налеты авиации шли с маленькими интервалами — волна за волной. Где–то часа в четыре исчезло электричество, моторы встали. Начали качать воздух вручную. Я стер ладони до кровавых мозолей, а воздуха все не хватало. В отсеках горели свечки. Потом пришло распоряжение, чтобы все покинули бомбоубежище. Это уже было часов в семь. Не знаю почему, но когда выбрались из бомбоубежища, то бросились под деревья. Оказались в парке Горького. Там мы прятались от самолетов вместе с бойцами конного эскадрона милиции, который возглавлял капитан Гинзбург. Здесь я встретил маму. Она была с моим пятилетним братиком. Стали думать, что делать дальше, куда идти? Одни собирались на Москву. Другие уговаривали двигаться на Могилев. Третьи — на Гомель. Наконец налет закончился.
Домой даже не заходили. Дом наш горел. Между налетами авиации я выбегал из бомбоубежища и видел: в него попала бомба. Прямо в первый подъезд, а вторая взорвалась рядом со вторым, где мы жили. Оказывается, маму отбросило взрывной волной на кучу угольной пыли возле кочегарки. Так она и спаслась.
Беженцы
Из вещей у нас было только то, что на нас надето. Из документов у меня за отворотом пилоточки лежал пропуск в Дом Красной Армии. Но я не один такой был. Все убегали из домов, чтобы только побыстрее в укрытие. Хотя отец предупреждал еще 18 июня, чтобы мать зашила все нужные документы в одежду. Но разве кто–то мог предположить, что никакой организованной эвакуации не будет? Растерянность полнейшая. Кто куда! Это я вам говорю потому, что своими глазами видел и потом много слышал таких историй. Во время налетов мы ждали, что в небе появятся и наши «соколы», о которых песни каждый мальчишка пел. Но краснозвездных истребителей не было. Немцы делали что хотели. Это был страшный удар по нашему сознанию.
24–го Минск фактически уничтожили. Горело все. Когда мы брели по Могилевскому шоссе, над городом стояло сплошное зарево. Ни до, ни после я ничего подобного не видел. Вначале нам немного повезло. Вместе с нами шли студенты пединститута. Они по очереди помогали маме нести моего пятилетнего братика. У меня на ногах, в сандалиях, волдыри были с куриное яйцо. Переночевали в лесу. Все время гудели в небе самолеты. Старались не разговаривать. Боялись, как бы не начали бомбить. На рассвете двинулись на Пуховичи. Надеялись, что там, может быть, удастся сесть на поезд, добраться до Витебска.
Возле Пуховичей нас задержал армейский патруль. Объяснили, что там немецкий десант, а они занимают оборону. Командир взял мою пилоточку, посмотрел пропуск и догадался, что и мой отец военный. Офицеры старались спасти свои семьи, а потому нас взяли в машину, которая шла на Червень. Но проехали благополучно только пять километров. Кончился бензин. Дальше все двинулись лесными дорогами. Я вышел на деревушку возле Червеня, где был маленький паточный заводик. Туда стекались разрозненные подразделения. Вид у бойцов был хуже некуда: грязные, изнуренные, раненые. В этой деревушке мы нашли приют. Нас накормили, смазали мне ноги, дали возможность несколько дней передохнуть.
Три немца
И вдруг появляются на велосипедах трое немцев. Проезжают мимо нас, смело направляются к красноармейцам. Я подумал, что немцев сейчас возьмут в плен. Но через час в сопровождении троих немцев уже брели наши плененные солдаты в Червень. Это меня шокировало даже больше, чем все авиационные налеты. Семьдесят красноармейцев не смогли справиться всего с тремя фашистами...
Вечером и мы пришли в Червень. Городок разграблен. Магазины перевернуты, двери нараспашку, окна выбиты. Под ногами валяются книги. Жители уже под оккупацией. Вывески кругом на немецком и белорусском языках. Приказы пройти регистрацию, сдать в комендатуру радиоприемники и оружие. За невыполнение приказа — расстрел!
В Червене встретили хорошего человека, и он нам посоветовал возвращаться в Минск. Опять же пешком с маленьким братиком отправились в обратную дорогу. В Минске оказались только в конце сентября. Сначала жили в бараке, в котором призывники в Красную Армию складывали свое имущество. Среди остатков барахла я смог найти и себе одежду. Барак стоял рядом с паточным комбинатом. Туда все ходили и ведрами таскали ту патоку. У многих были и мука, и хлеб. Когда в Минске было безвластие, люди разграбили все магазины и продовольственные склады. Тащили все, что попадалось под руку. Мне это рассказали друзья, я им верю.
Ходили мы и к родному дому. Надеялись, что, может, на стенах будут надписи: мол, такой–то находится там–то, ищет своих родных... На многих домах такие видели. Но, увы, все сгорело...
Затем мы оказались на Уфимской улице, где отец получил нашу первую квартиру. Там мы и жили до 37–го года. Соседка нас узнала, обняла. Мы оказались под крышей. Но знаете, в чем страх? На этой улице все знали, что мы семья военнослужащего. А если отец командир Красной Армии, то, значит, и коммунист. В любой момент могли доложить фашистам, полицаям. Страх предательства сопровождал нас всю войну, все время, пока немцы были в Минске.
Оккупация
Рядом с Уфимской улицей — железная дорога. Там часто останавливались составы с военнопленными. Многие просили сообщить их родственникам, что они живы. Выкрикивали свои фамилии и адреса. Просили хоть корку хлеба. Некоторые пленные спрашивали, а начали ли немцы раздавать колхозную землю? Вот как. Значит, они в плен сами сдались, если их земля интересует. Так я тогда думал и очень боялся предательства. Обстановка в городе складывалась тяжелая. Мы, мальчишки, боялись выходить в центр города, боялись попасть под облаву. Ведь потом могли начать выяснять социальное положение. А потом в лучшем случае высылка в Германию, а в худшем — концлагерь или расстрел вместе с заложниками. Облавы проводились часто и неожиданно. Так продолжалось до самого освобождения. Иногда как в возмездие за убитого немца брали в заложники целыми улицами.
Наша семья голодала. Мерзлую картошку ходили выкапывать и ей радовались. Я часто читаю литературу о тех тяжелых временах. Читаю о подпольных группах, организованных на заводах и фабриках. Как правило, они все погибали. Пишут, что провалы связаны с отсутствием конспирации. У меня же другая мысль. Уверен, что и предательство было. Скажу то, что сам видел и что знаю. Когда начал организовываться союз белоруской молодежи, то кто в него пошел? Те дети и молодежь, которая не была ущемлена войной. Они жили на окраинах Минска. Их родители много чего нахватали и награбили в первые дни войны. Да и недовольные были: кого–то раскулачили, кто–то пострадал от партийных чисток. Вот поэтому и гибло столько подпольщиков. Но нас не выдали. Во многом благодаря тому, что из девяти домов на нашей улице в трех находились явочные квартиры. Именно там мать получала партизанские листовки. Тяжело приходилось, но никто из пацанов нашей улицы не пошел ни в союз молодежи, ни в управу, ни переводчиком. Многие в партизаны хотели уйти, но не смогли. А знаете почему? Не брали. Кому нужны я, мама и братишка? Обозы — тяжкое бремя. Вспомните, сколько погибло в партизанских блокадах стариков, женщин и детей! Много больше, чем партизан.
Пошли мы работать. Надо же кусок хлеба получать. Устроились на расчистку города, на разбор руин. Денег тогда еще не было, и мы трудились только за еду. Давали баланду и кусок немецкого хлеба с опилками. Баланду я сам съедал, а хлеб приносил братику и маме. Во двор Дома правительства проложили железнодорожную ветку. В одной из книг я прочел, что по ней завозили продукты на склады. Не было там никаких складов! Возили по той ветке торф и бревна для котельной. Там вместе с евреями, которых пригоняли из гетто, доводилось мне заниматься разгрузкой вагонов. Охраняли нас литовцы и трое украинцев с повязками на рукавах «Служба бяспекi». Они нас даже к костру зимой греться не подпускали.
На нашей улице жила женщина, такая же беженка, как и мы. У нее был муж — майор Красной Армии. И как–то эта женщина — к сожалению, не помню ее фамилии — подобрала маленькую еврейскую девочку Розу. Они несколько месяцев жили вместе. Девочка даже мамой ее называла. Так они договорились, чтобы подозрений меньше вызывать. Как–то шли по улице Уфимской евреи из гетто, попрошайничали. Жизнь у них там была хуже некуда. Так вот они увидели девочку, а потом к жене майора пришли полицаи, арестовали, а Розу забрали в гетто. Больше о них никто ничего не слышал.
В один из дней судьба свела меня с учительницей физики Ниной Лукиничной Плавильщиковой. Она хорошо знала нашу семью. Папа несколько раз по ее просьбе приходил в школу и выступал перед детьми. Мы с ней просидели в Бобруйском сквере несколько часов, разговаривая. Потом я привел ее домой. Нина Лукинична осталась у нас ночевать, ведь на дворе был уже комендантский час. Прощаясь, она пообещала найти нас. Появилась в конце 44–го и сообщила, что отец жив, служит, был ранен. Это была первая весточка об отце с 21 июня.
Во время оккупации работало в Минске несколько школ, но ни я, ни мой брат, ни пацаны нашей улицы в те школы не ходили. В нашем доме было печное отопление, но дров не было. Пилили деревья, ломали заборы. Но были и такие, кто смог приспособиться к новой власти и жил хорошо. Скажем, работали в Минске чайные. Но хозяин вместе с получением лицензии на частное предпринимательство становился и агентом СД или полиции.
Об отце
Отец нашел нас в 1946 году. Он приехал в непривычной для глаз форме полковника польской армии. Так случилось, что в эти дни мои друзья попались на выплавке тола из снарядов. Для нас это было дело привычное. Собирались глушить рыбу. Я уговорил отца, и он пошел в милицию вызволять моих друзей из–под ареста. Ведь детям хотелось есть. Голодно было, хоть война и закончилась.
Еще до войны, в классе втором, я делал стенную газету с портретами маршалов и видных советских командиров. Повесил ту газету дома на стену. Отец то одну фотографию снимал, то другую. Когда же я спрашивал, зачем, говорил, что эти люди уже на другой работе. Сам же часто вставал ночью и нервно ходил по комнате, в окно смотрел настороженно. Я этому не придавал значения. А утром, когда шел в школу, встречал заплаканных детей. Выяснялось, что у кого–то папу арестовали, у кого–то маму взяли. «Врагом народа» кто–то из родителей моих одноклассников оказался. Но из школы детей не выгоняли. Вот пример: у Эдика Михельсона арестовали отца, а семья осталась на оккупированной территории. Но никто не стал предателем.
Отец прошел Первую мировую и гражданскую войны. Был награжден на Румынском фронте Георгиевским крестом, а девиз этой награды — «За службу и храбрость». Солдаты–окопники выдвинули его в Совет солдатских депутатов. С марта 1918 года он связал свою жизнь с Красной Армией. Учился на командно–кавалерийских курсах. Служил хорошо, а за высокое призовое место был награжден именной шашкой от наркома обороны К.Е.Ворошилова. В семье привыкли к его частым инспекторским выездам в гарнизоны. Однажды, вернувшись со службы, он удивил нас новостью: его рекомендуют на учебу в одну из академий РККА в Москву.
Но шел злопамятный и злополучный 1937–й...
Уже потом, годы спустя, он многое успел мне рассказать, но и умолчал о многом. Выяснилось, что у него арестовали родного брата по анонимке. Утверждалось, что он — польский шпион. Дядю взяли в Смоленске, где он жил, и вскоре расстреляли. Отец был обязан доложить начальству рапортом. Доложил. И тут же вопрос о его учебе в академии отпал. Сразу сократились его поездки по гарнизонам, он рано стал возвращаться домой со службы. Отца фактически отстранили от работы, но звания не лишили. В 1947 году выяснилось, я сам тогда с отцом в Витебск ездил, что в 1937–м приезжали в деревню сотрудники НКВД и расспрашивали местных жителей об отце. Интересовали биография, польское происхождение, связи. Люди рассказали правду, что отец из бедных крестьян, что батрачил, что семья местная, давно живет здесь, а про поляков никто не слыхал. Я считаю, что это его и спасло. Выяснилось, что фамилия наша не польская, а белорусская.
А вот какой странный поворот произошел во время Отечественной войны. Отец тогда уже был заместителем командира кавалерийской дивизии. Начали формироваться польские части. Его отозвали с фронта в Генштаб и предложили стать заместителем командира польской бригады имени Костюшко. Отец рассказывал, как ему было больно расставаться с казачьей формой, с боевыми друзьями, для которых он был «батей». Это в казачьих войсках самая высокая похвала. Он ведь с солдатами и голод делил, и холод, и степные пожары, и сабельные атаки. Он пронес свою казачью форму через всю войну.
В польской армии отец получил четыре креста, не считая медалей. Когда приехал Рокоссовский и принял командование армией на себя, отца опять вызвали в Москву. О демобилизации не думал. И вдруг предложили принять польское подданство и продолжить службу в польских вооруженных силах. Отец сильно удивился. Ведь он считал себя белорусом. Попросил время на размышление. Сутки не спал. Война кончилась, он выполнил свой долг. Ранен. Что от него еще надо? И отказался. А раз так, то его тут же признали ограниченно годным по состоянию здоровья. Предложили, правда, поехать комендантом Архангельска. Отец и на этот раз проявил характер. Полковника Лисовского Андрея Иосифовича списали по сотому приказу.
Когда отец умер, военком не давал разрешение на захоронение до тех пор, пока не сдадим отцовские награды. Глупый закон, унизительная процедура. Ведь это поругание чести боевых медалей и орденов! Фронтовики их своей кровью заработали, рискуя собственной жизнью... Все награды пришлось сдать.
Отец мог обидеться на советскую власть. За расстрелянного брата, который не был ни в чем виноват и которого потом реабилитировали. За то, что забрали Георгиевский крест. За черную метку в личном деле и за неполученные награды. Ведь он — родной брат польского «шпиона» и «врага народа». За все те унижения, которые довелось пережить по поводу фамилии и национальности. Мог, но не обиделся.
От автора. Когда я слушаю рассказы очевидцев и непосредственных участников той великой войны, то понимаю, что война действительно одна на всех. Но в то же время она у каждого своя. С личной болью и до сих пор саднящей раной.
Автор публикации: Владимир СТЕПАН
Давайте обсудим ваш вопрос или заказ!
Изложите суть Вашего запроса в области генеалогии. Наши специалисты обязательно свяжутся с Вами, проконсультируют и найдут наиболее подходящее решение.