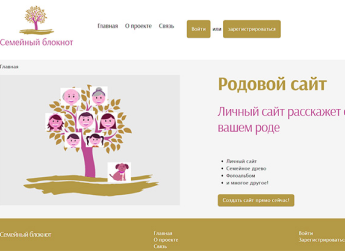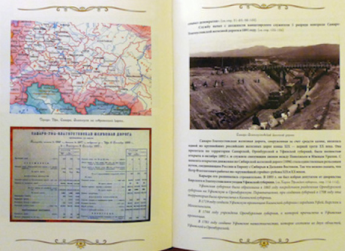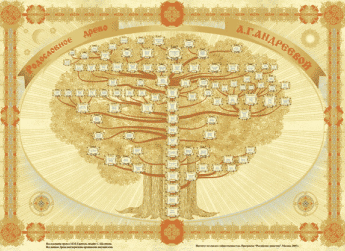8482
О фашистских концлагерях вспоминают малолетний узник и солдат-освободитель
15-летний мальчик побывал в Майданеке и остался жив — войска Советской Армии успели освободить его в последний момент. Один из детских концлагерей в Прибалтике вовремя освободить не успели: к моменту подхода советских войск фашисты убили всех детей, у которых они брали кровь для своих раненых. Непохожие судьбы двух ветеранов связывает общая нить: во время войны оба столкнулись с реальностью концлагерей для детей, а после начали сотрудничать с Комитетом Государственной Безопасности.
Разведчик Николай Иванович Александров, бывший малолетний узник концлагеря Майданек
Когда летом 1942-го в село Каплино под Старым Осколом пришли фашисты, Коле Александрову едва исполнилось пятнадцать. В армию ушел старший брат, и все заботы свалились на плечи второй жене отца (мать Коли, его старших сестры и брата умерла, и отец женился вторично). Через несколько дней полицаи вручили повестки Нине, родной Колиной сестре и Васильку, старшему сыну мачехи. Им предстояла отправка в Германию — фашистам требовалась бесплатная рабочая сила.
Николай Иванович Александров. Фото: Наталья Чернова
Мачеха кинулась в ноги старосте. Он тоже наш был, местный, Тимофеем Акининым его звали. Кричит: хоть убивайте, а не отдам Нинку, мы с голоду без нее все умрем! У мачехи-то на руках еще четверо малолетних было. Отца нашего незадолго до войны посадили. Он бригадиром работал, кто-то на него донес — даже разбираться не стали: вредитель, и все тут! А Нина уже работала… Тимофей, староста, послушал и говорит: хорошо, старших не заберем. Но кого-то все равно отдать придется, иначе расстрел и им, и мне. Вот твоему Кольке повестка, пусть он за брата с сестрой в Германию едет.
Через несколько дней я с вещами пришел в сельсовет. Там уже собралось около сотни таких же бедолаг с узелками. На следующий день после обеда нас всех посадили в товарный эшелон, который поехал прочь от родных мест, в Польшу. Везли несколько дней: по пути собирали ребят из Белгорода, Харькова, Орши. Наконец объявили: «выходи, стройся»!
Как оказалось, нас привезли в концентрационный лагерь Майданек. Тогда мы еще не знали, что попали в одно из самых страшных мест на земле. В этом лагере формировали команду малолетних узников для дальнейшей работы на заводах и фабриках Германии. Лагерь еще строился: новенькие бараки пахли свежим деревом. В одном таком нас и разместили. Временно, на санобработку. Обрили всех — и ребят, и девчат наголо, облили какой-то вонючей гадостью, горячей водой окатили — все, выходи, не задерживай! Выдали каждому неуклюжие деревянные башмаки и полосатую робу с нашитой на ней красной буквой «Р» (русский — Примеч. РП) и лагерным номером. Помню ли я его? Конечно, помню. У нас ведь там не было ни имен, ни фамилий — только номера. Мой был — 8482.
В карантинном блоке — ни нар, ни топчанов, одни матрасы на земляном полу. Прямо на них нам приказали ложиться, и били дубинками, чтоб прижимались друг к другу плотнее, а на освободившиеся места укладывали еще несколько человек. По ночам мы старались не выходить: идти приходилось прямо по спящим людям, а назад вернуться невозможно — лечь было некуда. Кормили… Ох, о кормежке разговор особый. В пять утра — подъем. На завтрак давали миску с коричневой вонючей жижей — эрзац-кофе. Глотнешь из этой миски пару раз и передавай дальше, по кругу. В обед — баланда с какими-то очистками, не то картофельными, не то свекольными. И кусочек хлеба: что на вид, что на вкус — форменные дубовые опилки. Удивило меня то, что нашим надсмотрщиком был поляк, а не немец. И до того злющий, гад — фашисты так не измывались над заключенными, как этот. Очень ему не нравилось, когда он видел, как кто-то помогает своим товарищам. А мы старались держаться вместе: я, Толик Копешкин с Казацкой слободы, еще один Толик — Бакланов, он до сих пор жив-здоров, кстати, наш низовский Витек — его сестра Роза во-о-он там (Николай Иванович указывает рукой в сторону), через два дома, живет, и Борька с Ямской. Вообще к полякам тогда относились получше, чем к остальным пленным. У них даже нашивок на рубахах не было. А народу в лагере собрали: и французы, и итальянцы-антифашисты, и евреи, и наши советские военнопленные. Этим было хуже всех. Чуть что — либо показательный расстрел перед строем, либо виселица. Из нашей партии двоих тоже повесили. До сих пор их помню: здоровые, красивые парни, Иван из Краснодара и харьковский Павлик. Они друг от друга вообще не отходили. Одного из них охранник ударил, второй налетел на немца с кулаками, повалил, начал душить… Тут же сбежалась целая толпа фашистов. Били ребят долго, ногами, резиновыми палками. А потом подняли — идти сами они уже не могли — и повесили обоих на одной виселице, прямо в центре лагеря.
Еще хорошо помню доктора Петю, тоже из Харькова. Конечно, лекарств у него не было никаких. Их в лагере вообще не было. Заболевших заключенных никто не лечил, сразу уничтожали. Хотя были и лагерные врачи, но они разве что йодом синяки смазывали… А Петя — он не просто врач был, а с какими-то особенными способностями. На голову положит руку — перестает болеть, даже если тебя до этого с размаху немец дубинкой своей резиновой огрел. Руками по спине поводит, надавит пару раз на позвоночник — там хрустнет что-то, щелкнет — и дышать легче становится, и ноги гудеть перестают. Воду в руках подержит, даст человеку выпить – у того живот перестает болеть. В общем, мы его колдуном считали. Петя обижался: до войны-то он в обычной больнице работал, лечил, как положено — таблетками и уколами. А как не стало таблеток — одной силой воли врачевал, вот, значит, какой врач был! Настоящий! Потом донес и на него кто-то. Пришли фашисты и увели нашего доктора. Куда — неизвестно, но я надеюсь, расстрелять не должны были. Наверное, забрали, чтоб он фашистов также лечил… А, может, и убили.
Через некоторое время немцы внезапно объявили погрузку: ехать дальше, к месту работы. Около сотни старооскольцев привезли на огромную химическую фабрику. Она протянулась километров на двадцать вдоль Рейна. Что производил этот промышленный гигант, мы толком и не знали: не то краску, не то соду какую-то. Таскали вручную вагонетки, груженые шлаком. Весили они по 750 килограммов, поэтому впрягались по нескольку человек.
На фабрике трудились тысячи людей: французы, поляки, русские военнопленные (им приходилось хуже всех), даже итальянцы — те, кто отказался служить в гитлеровской армии. Один барак стоял особняком: здесь жили добровольцы с Западной Украины. Те были злые и вредные. Особенно одна девка детдомовская была шустрая и въедливая. Вы, говорит, москали, тут будете робыть, пока не сдохнете, а мы сами приехали, картошку убирать. Заработаем гроши и уедем на родину, а вы гнить будете! Я в ответ: да вы такие же рабочие, как мы, ничем не лучше. А она аж побелела от злости и шипит по-своему, какой, дескать, я противный. Доносили они на нас постоянно. За несколько месяцев, что там проработал, я из карцера не вылезал. И били надзиратели тоже здорово. А все-таки я над этими западенцами посмеялся, когда выяснилось, что домой фашисты никого отпускать не собираются, хоть с деньгами, хоть так. До конца войны они на Гитлера пахали, бесплатно и добровольно. Разве что кормили их получше, чем нас.
Несколько раз я пытался сбежать. За нами не очень-то пристально следили. Но далеко уйти не получалось: мирные немцы как увидят на улицах одного парня в форменной робе, сразу сообщают полицейским, а те ведут обратно на фабрику. Чтоб надсмотрщики сильно не били, я врал, что отстал от строя, зашел по пути в лавку, свернул не на ту улицу... Вы говорите, как без знания языка обходились? Да у нас все уже через пару месяцев знали немецкий, как свой родной. Под плетьми все-е-е выучишь, как миленький… Я до сих пор этот проклятый язык помню, во сне по-немецки порой разговариваю…
В апреле сорок четвертого мы опять решили сбежать. Пошли вчетвером: Толик Бакланов, Витек и Тамара, девочка из Стрелецкой слободы. Шли по ночам, держась подальше от дорог и населенных пунктов. Добрались до города Саарбрюкен (город на западе Германии, столица земли Саар — Примеч. РП). На окраине нас заметила пожилая немка и знаками пригласила за собой. Молока налила, дала хлеба. Пару дней мы у нее отсиживались в сарае, а потом ушли. Она нам одежду дала штатскую, хлеба с собой дала. И немцы — не все звери, есть и хорошие люди.
Но уже на следующий мы день нарвались на полицейский патруль. Я гляжу: конвоир отвернулся, на меня не смотрит, и побежал в сторону вокзала. Думал — уйду, за мной не погнались, даже стрелять вслед не стали. Но далеко не ушел, на соседнюю улицу повернул — навстречу гестаповцы. От этих не убежишь... Привели в отделение, вроде полицейского участка, допросили и отправили обратно. Но не на фабрику, а опять в Майданек.
В этот раз лагерь произвел на меня ужасное впечатление. Когда-то новенькие, пахнущие смолой, бараки насквозь пропитались запахом смерти. Теперь в лагере было полным-полно поляков и евреев. И уже незаметно было, что у поляков есть какие-то привилегии. А еще над лагерем постоянно дымили трубы. Когда в первый раз я прибыл в Майданек, там еще не было ни одного крематория, теперь же их было целых два. Их называли «печи дьявола». А у здания администрации концлагеря цвели великолепные розы. Заключенные отворачивались от них, как от чумы. Мне вначале непонятно было почему, а один еврейчик мне и рассказал. Эти роскошные цветники и огороды для лагерного начальства удобрялись, оказывается, пеплом из сожженных человеческих тел. Оттуда один был выход: в трубу, и с дымом — прямо к господу Богу. Но это для верующих, а я был комсомолец, и в сказки про рай небесный не верил. Бежать было надо.
Удивительно, но мне удалось сбежать в буквальном смысле слова на глазах у немцев. Во время возвращения с работы я просто бросился в сторону и помчался, не разбирая дороги. Вслед стреляли, но не попали. Почему за мной не погнались? Даже не знаю… Возможно, опасались, что разбегутся остальные. Долго скрывался, голодал, пока не вышел к границе с Францией. Там стояла американская воинская часть. Вот к союзникам я и прибился. Они меня не обижали. Я на них работал — они меня кормили. Обувь дали хорошую — у них замечательные были ботинки. И до самой Победы у американцев я прожил.
После победы встретил девушку-украинку, она тоже была из малолетних заключенных. Женился, родился сын. Полтора года прожили мы в Бельгии, и я все звал жену: поехали домой! А она не хотела, боялась: мы там знали, что бывшие пленные могут прямо сразу после возвращения на родину попасть уже в свой советский концлагерь. Решили перебраться в Австралию. Я шофером устроился, языки освоил: кроме немецкого, выучил французский и английский. Восемь лет жили среди всяких кенгуру, восемь лет я жену просил: поехали домой, пусть сын в русскую школу ходит: она ни в какую не соглашается, хоть ты что делай! А тут подвернулся мне случай съездить в Новую Зеландию. И первым делом я в советское посольство пошел: в Австралии его тогда не было. Нашел там консула, объяснил ему ситуацию, выслушал советы. Вернулся домой и втихаря от жены купил два билета на туристический лайнер: себе и сыну. В общем, украл я ребенка. Доплыли до Цейлона — я опять в посольство бегу: не забыли ли там про нас? Нет, не забыли. В Порт-Саиде нас тайно сняли с лайнера, три месяца держали на конспиративной квартире в столице Египта, а после тайком на танкере переправили в Новороссийск.
И уже через месяц мы с сыном приехали домой, в Каплино. Родные едва с ума не сошли: на дворе — пятьдесят четвертый год, они-то думали, что я умер давно.
Я опасался, что посадят: и отец был судимый, и я за границей долго прожил, хотя мог вернуться раньше. Однако вышло иначе: через некоторое время меня пригласили работать в Комитет Госбезопасности. Я ведь знал несколько языков, был отлично знаком с жизнью в капстранах. Что делал? В командировки ездил…На Кубу, в Китай и Японию. Зачем — не спрашивайте: многие операции до сих пор засекречены. Мы с Анной Васильевной, второй моей женой, почти сорок лет прожили, двоих дочек народили — и то она ничего о моей работе не знала, и до самой смерти своей не узнала.
Сын пошел в первый класс в русскую школу, как я и хотел. Окончил десятилетку, отслужил в армии, проработал несколько лет в Якутии. С первой женой мы помирились. Она в гости к нам приезжала несколько раз. А сейчас и сын за границу перебрался, живет с матерью в Бельгии. А я не хочу. Лучше нашей родной земли ничего нету — вы мне верьте, я много стран повидал.
Школьный учитель, связист, артиллерист, разведчик, танкист, сотрудник КГБ Михаил Васильевич Путенихин
В июне 1941-го уральскому мальчишке Мише Путенихину тоже было пятнадцать.
Отец ушел на фронт в сентябре, прислал всего одно письмо, а следом пришло извещение: муж и отец Василий Путенихин пропал без вести под Москвой, в январе сорок второго... Той же осенью умерла мать, и Михаил остался единственной опорой для двух сестер и младшего брата, которому едва исполнилось два года.
Михаил Васильевич Путехин. Фото: Наталья Чернова
Я едва десятилетку закончил — и сразу же меня отправили опять в школу, работать учителем. Год преподавал, вел уроки в двух классах. А осенью сорок четвертого, когда исполнилось семнадцать, получил повестку на фронт. Четыре месяца снайперской подготовки и нас отправили на Украину, затем в Белоруссию. Там встретились с партизанами. Это были здоровые, крепкие мужики, но они плакали, когда рассказывали нам о зверствах фашистов. От них я впервые услышал о трагедии в деревушке Хатынь. Гитлеровцы сожгли там заживо 470 стариков, детей и женщин. Хорошо помню, как партизаны говорили, что кроме фашистов, там было множество полицаев с какими-то странными знаками на форме. Теперь вот по телевизору говорят, что это, возможно, были бандеровцы из Украинской повстанческой армии. Кто знает, может быть, так оно и было.
Самое жуткое на войне не разруха, не бомбежки и даже не гибель солдат. Ничего нет чудовищнее издевательств над детьми, ничего нет страшнее детской смерти. Самое страшное потрясение я испытал в Прибалтике. В местечке Саласпилс мы освобождали детский концентрационный лагерь смерти. Партизаны рассказывали, что там творятся страшные зверства, но мы даже представить себе не могли, что увидим такое… Уничтожили охрану, вошли в лагерь и оцепенели, увидев огромную гору мертвых детей. Их было много, несколько сотен, от трех-четырехлетних малышей до подростков лет одиннадцати-двенадцати. Все страшно истощены, настоящие скелетики, обтянутые кожей. Обнаженные тельца лежали, аккуратно сложенные штабелем, как поленница. Было лето, но запаха от трупов не было, и мы поняли: мерзавцы умертвили детей буквально перед самым нашим приходом.
Мы думали — здесь не осталось живых. Но, войдя в один из крайних бараков, обнаружили три десятка уцелевших детишек. Они были буквально полуживыми: не могли ходить, и говорили с огромным трудом: шепотом, прерываясь, чтобы передохнуть. Но все-таки рассказали: лагерь в Саласпилсе был создан фашистами с одной-единственной целью — для лечения раненых фашистов. Пленные малыши были донорами. Ежедневно нескольких из них забирали и выкачивали кровь для переливания. На стенах висели графики, начерченные с немецкой педантичностью. Каждый ребенок должен был знать, когда за ним придут, и несчастные дети жили в постоянном ожидании смерти. Зачастую дети гибли прямо во время очередного переливания, и фашисты даже не хоронили их, а просто сваливали тут же в общую кучу. Каждый ребенок, попавший сюда, был заведомо обречен. Четырнадцатилетним везло больше: их отправляли на принудительные работы в Германию, там, по крайней мере, был шанс остаться в живых.
- 1 / 3Михаил и Юлия Путенихины с первенцем Сашей. Фото: Личный архив Михаила Путенихина
Мы на руках выносили детей из барака, укладывали в подводы и машины. Помню одного мальчика лет шести. Я несу его, а он смотрит мне в глаза и шепчет из последних сил: Вася, меня зовут Вася… На большее у бедного малыша не хватало сил. Кого-то из спасенных тут же забрали гражданские, но большинство отправили в полевой госпиталь. Мы потом несколько раз спрашивали медсестричек: как там наши дети? Нам отвечали: лечатся, все нормально. Хотя не все выжили, конечно. Потом малышей переправили в глубокий тыл, и как сложились их судьбы, я не знаю. А хотелось бы, конечно, знать, что все живы, здоровы, счастливы, что у них есть семьи, дети и внуки… После этого у меня пропало ощущение, что мы воюем с людьми. Осталось чувство, с которым в снайперской учебке стрелял по мишеням. Главное — поразить цель.
После Латвии была Литва, там я едва не стал инвалидом. Во время одной из бомбежек упавшей станиной пушки мне придавило и едва не отрезало ноги. 25 дней провалялся на больничной койке. В госпитале встретил двоюродного брата Ваську. Тот от радости чуть с ума не сошел: оказывается, меня на родине считали погибшим, похоронка пришла три недели назад! Тут же мы с Василием на лавочку в госпитальном дворике сели и написали большое письмо родным в деревню: живы оба, чуток подлечимся — и снова бить фашистов пойдем. Потом Пруссия, освобождение Кенигсберга. Здесь прямо на поле боя я получил самую драгоценную свою награду: Орден Красной Звезды.
Победу встретил в городке Прейсиш-Эйслау (теперь Багратионовск — Примеч. РП). В бою за этот город погиб мой лучший друг, Андрюша Притычкин. С первого дня в учебке мы с ним были вместе. Все награды получали на двоих: два одинаковых ордена, две медали, во всех боевых операциях вместе. И так глупо, перед самой Победой, попал Андрюша под пулю немецкого снайпера. Своими руками, как когда-то для матери, я выкопал для друга могилу, а потом написал письмо его родителям в Нарофоминск, где рассказал, каким замечательным парнем был их сын и мой боевой товарищ.
Командование обещало, что полк вот-вот перебросят на Берлин. Не успели: 2-го мая Берлин был взят, а 8 мая гитлеровцы окончательно капитулировали. Остались мы стоять на берегу. Занимались разными хозяйственными работами, даже зерновые собирали. Машина косит, а мы снопы вяжем, как в родной деревне до войны… А раз послали нас расчищать заброшенную штольню. Среди прочего отыскали мы несколько здоровенных ящиков, битком набитых янтарем. Из любопытства швырнули один кусок в костер. Дым заклубился густой-густой, смолой сосновой приятно запахло. На запах из части примчался офицер и схватился за голову: «Вы что, с ума посходили?! Это же ценность!». У ящиков с золотистой смолой немедленно выставили охрану, а после отправили в тыл. Я вот думаю порой: уж не та ли это таинственная Янтарная комната была, которую столько лет ищут и все никак найти не могут? Уж больно много янтаря было. Ящики огромные…
Служил я еще пять лет после окончания войны. Объездил весь СССР — от Кавказа до Дальнего Востока, закончил танковое училище, получил офицерское звание. В пятидесятом году демобилизовался, и внезапно оказалось, что ехать некуда и не к кому. Все по домам собираются, веселые… А меня никто не ждет. Родной дом давно разрушен, младшие сестры и брат — в детском доме.
Тут товарищ, Ваня Лунев, и предложил: поехали со мной в Закарпатье. Я и поехал — не все ли равно, куда? Привез меня Ваня в Ужгород. Там в военкомате посмотрели на мой послужной список и предложили работу в райкоме партии, вторым секретарем. Я к тому времени уже два года как был членом КПСС. Ну что ж: «Партия сказала: надо! Коммунист ответил: есть!» Через какое-то время ко мне подошел человек в штатском и предложил работу в госбезопасности: бороться с бандеровцами. И вот что я скажу: в Закарпатье этих выродков никогда не было! Там жили не украинцы, а закарпатские русины, они с Бандерой и его прихвостнями никаких связей не имели! Это в Прикарпатье — Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Дрогобыч — были их гнезда. Да и то: далеко не все местные жители поддерживали их. Простые украинцы сами просили: придите, наведите порядок, ведь сил никаких нет: только выберем председателя — ночью уже идут эти из леса! Председателя убьют, все пожгут и опять ховаются по схронам!
У меня и свадьба из-за бандеровцев едва не сорвалась. Ловили мы банду. Взяли всех, кроме главаря. И вот у меня свадьба в разгаре, и тут жители сообщают, что преступник спрятался в соседнем доме у знакомой. Прямо из-за стола, в костюме и при галстуке, бросился на задержание. С другом-опером заходим в дом — с чердака гремит выстрел. Напарнику прострелило ногу. Начальство приказало: «Не сдается — огонь на поражение, его подельники все равно раскололись». Тогда мы прямо в потолок дали пулеметную очередь, и из дыр в досках закапала кровь. В общем, к невесте я попал только глубокой ночью…
С женой Юлией мы прожили 54 года. Народили двоих сыновей, а когда старший женился — всей семьей перебрались в Старый Оскол. Здесь несколько лет назад основал в школе № 19 кадетский корпус «Виктория». И здесь же, на Белгородчине, несколько лет назад мне вручили затерявшуюся в военной суматохе медаль «За отвагу». Меня искали через военкоматы, но я же был чекистом. Мои личные данные хранились в архивах Комитета Госбезопасности. Когда начальнику КГБ принесли на подпись бумагу о том, что Путенихин не найден, тот изумился: «Что значит «не найден», когда я его лично знаю?!» Так через 65 лет после окончания Великой Отечественной я получил свою последнюю боевую награду.
На территории фашистской Германии и оккупированных ею стран действовало с 1936 по 1945 годы 23 концентрационных лагеря с двумя тысячами филиалов. За эти годы в них было брошено 18 миллионов человек. 11 миллионов из них было уничтожено.
Подробнееhttp://belgorod.rusplt.ru/index/o_fashistskikh_kontclageriakh_vspominaiut_maloletneyi_uznik_i_soldat-osvoboditel-9678.html
Давайте обсудим ваш вопрос или заказ!
Изложите суть Вашего запроса в области генеалогии. Наши специалисты обязательно свяжутся с Вами, проконсультируют и найдут наиболее подходящее решение.