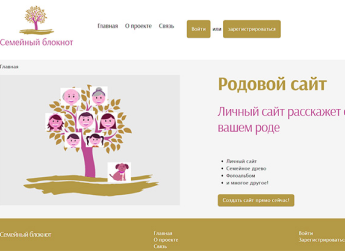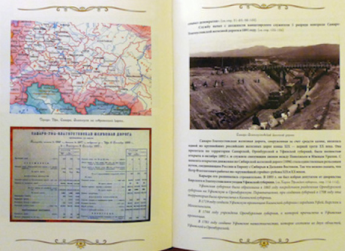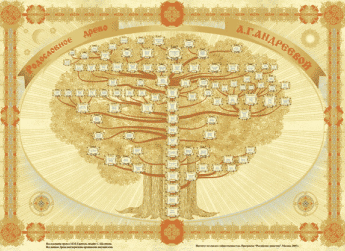Запретный стиль
И опальные редакторы
На вершине одного из семи легендарных холмов Москвы в 1927 году появилось сооружение в стиле конструктивизма. Его описывают все справочники и учебники по архитектуре как высшее достижение Григория Бархина и авангардного стиля, какому он в числе первых последовал. Зодчий реализовал прославивший его проект поздно, когда ему было 45 лет. До революции он учился в Петербурге, работал в Москве, служил главным архитектором Иркутска и в царской армии полковником-инженером. После революции проектировал дома для рабочих, им советская власть пыталась воздать долг за пролитую кровь в борьбе «за власть Советов».
Конструктивисты отказались от всех прежних украшений фасадов, что хорошо видно на Пушкинской площади на примере здания старых «Известий» с часами на торце. Образ делового здания создается гладью бетонных стен и стекла квадратных и круглых окон, плоскими парапетами балконов. Конструктивизм господствовал всего несколько лет в Москве. Такие фасады множились до тех пор, пока их не запретил приверженец классики Сталин, ставший в 1929 году полновластным главой государства и фактически главным зодчим столицы. Архитектура — пристрастие диктаторов. Стиль, процветавший в капиталистической Европе, «вождь мирового пролетариата» счел буржуазным и противопоставил ему классику с колоннадами и пилонами, которой многим обязана старая Москва.
Часть известных московских архитекторов вписалась в «классическое наследие». Но пожилой Бархин не желал творить в ретроспективном стиле, которому отдал дань в молодости, помогая Роману Клену возводить и украшать музей изящных искусств на Волхонке и Бородинский мост. После «Известий» Бархин прожил свыше сорока лет, но в Москве ничем больше себя не проявил как практикующий архитектор: учил студентов, занимался теорией, руководил мастерской Моспроекта.
Два сына профессора пошли по стопам отца, преподавали, писали книги по архитектуре и стали авторами реализованных крупных проектов. Старший сын Михаил Бархин успел после Отечественной войны построить в сталинском ампире многоэтажный жилой дом на бывшей Калужской заставе. Это импозантное здание на въезде в старую Москву выделяется тем, что, как пишет в архитектурном итальянском путеводителе Алессандра Латур, «в отделке использованы детали красного цвета, навеянные испанскими мотивами. Угловые части здания в виде башен образуют монументальный въезд с площади Гагарина на Ленинский проспект».
Младший сын профессора Борис Бархин во время, пока Никита Хрущев не добил сталинский ампир, построил на Смоленской набережной у метромоста многоэтажный дом с башней, карнизами, пилонами, выступами-эркерами, свойственными этому стилю. В наши дни они давно прощены и не кажутся архитектурными излишествами.
В новое здание на Страстной площади редакция «Известий» перебралась с Тверской улицы, 18. Там после переезда правительства Ленина в Москву она заняла вкупе с органом ЦК партии «Правдой» бывший дом великого издателя Ивана Сытина. В нем были его квартира и контора издательства, помещалась редакция популярной газеты «Русское слово», закрытой большевиками.
«Известия» — единственная советская газета, история которой началась в дни Февральской революции и продолжалась после Октябрьской революции. За 95 лет в ней сменилось тридцать редакторов. Среди них самыми выдающимися считаются Николай Бухарин и Алексей Аджубей.
На руках у Бухарина в Горках умер Ленин, назвавший его любимцем партии. Золотой медалист Первой мужской гимназии, исключенный из Московского университета революционер, после смерти кумира стал самым молодым членом Политбюро ЦК партии, редактировал «Правду», слыл главным идеологом, пока не вошел в конфронтацию со Сталиным, начавшим переворот в деревне.
Кабинет главного редактора «Известий» Николай Иванович занял, когда его звезда стала клониться к кровавому закату. К нему на Страстную площадь приходила Надежда Мандельштам с мольбой спасти мужа после ареста и ссылки в Чердынь за самоубийственные стихи о Сталине. Бухарин помог, еще был в силе: выведенный из узкого круга Политбюро, оставался членом ЦК партии. Ссылку в глухую Чердынь заменили на Воронеж. По просьбе Бухарина высоко чтимый им Борис Пастернак написал стихи во славу советской власти:
Я понял все живо,
Векам не пропасть,
И жизнь без наживы —
Завидная часть.
Пастернака прельстила в 1935 году налаживавшаяся после «раскулачивания» жизнь в СССР «без наживы», радовали:
И смех у завалин,
И мысль от сохи,
И Ленин, и Сталин,
И эти стихи.
Ни успешная и верная служба, ничто другое, содеянное Бухариным в угоду вождю, не помогли ему избежать ареста в 1937 году. В тюремной камере Лубянки написал узник автобиографический роман «Времена» о своей жизни в Москве, увидевший свет в наши дни. «Коба, зачем тебе нужна моя смерть?» — спрашивал Николай Иванович в предсмертном письме бывшего соратника и друга. Вместо ответа получил пулю в затылок. «Врага народа» предали абсолютному забвенью. Даже полвека спустя после казни бывшая сотрудница «Известий» Марина Юлиановна Меленевская шепотом рассказывала мне, как, взяв ее, молодую и красивую девушку под руку, главный редактор «Известий» шел по Тверской до Красной площади и ворот Кремля, раскланиваясь с прохожими, по пути рассказывая забавные истории.
Судьба другого выдающегося редактора «Известий» Алексея Ивановича Аджубея не столь трагична, но печальна. После отставки Хрущева его зятя немедленно убрали из редакции газеты, ставшей при нем самой читаемой в СССР. Запретили публиковаться под своей фамилией, выезжать за границу. Отправили бывшего главного редактора в журнал «Советский Союз», где иностранцам на 17 языках рассказывалось по завету Максима Горького о «наших достижениях». Под началом бывшего главного редактора крупнейшей газеты значился один сотрудник...
Спустя несколько лет после падения с вершины власти никем не узнанный пришел Аджубей на Чистые пруды, в редакцию городской газеты, и передал мне деньги на железнодорожный билет из Москвы в Одессу. Туда следовала сколоченная мной группа московских репортеров, чтобы совершить рейс по Черному морю. Поехал Аджубей в жестком купе на четверых явно с охотой, попал в атмосферу всеобщего преклонения «акул пера». Все мы знали ему цену, видели, какими блеклыми стали «Известия» после Аджубея.
Черноморское морское пароходство сохраняло неутраченную традицию корабельного гостеприимства со времен императорской России. Каждое застолье за роскошным столом сопровождалось тостами. Бокалы наполнялись лучшими крымскими винами. В портах на стоянках устраивались приемы. После Сочи ожидало грузинское радушие, закончившееся пиром в ущелье у водопада. Все тянулись к Аджубею с бокалами и рюмками. Пил он и в каюте капитана, и в трюме машинной команды, всеобщее почтение и опьянение давало ему душевное успокоение.
Такой, какой мы ее знаем, Пушкинская, бывшая Страстная, площадь сложилась в три захода: сначала построили кинотеатр «Россия», далее сломали старинный квартал на углу Тверского бульвара и Тверской улицы. На углу этой улицы и площади разрушили дом под номером 1 и «Дом Фамусова» под номером 3 и на их месте возвели новое восьмиэтажное здание «Известий» с протяженными коридорами, множеством кабинетов, конференц-залом. Сюда переехала многолюдная редакция газеты.
Старое здание заняла созданная Аджубеем «Неделя». При нем в этом еженедельнике публиковалось то, что не дозволялось другим. В «Неделе» я напечатал репортаж о единственном в мире маленьком цирке блох в парке Тиволи Копенгагена, отклоненный в «Московской правде» за легковесность. Рассказал о том, о чем писали Гофман и Андерсен. Я увидел, как дрессированные блошки под крошечными опахалами тащат по миниатюрной арене повозки в 200 раз тяжелее их собственного веса, крутят на ножках шар, играют в футбол, катаются на карусели, соревнуются под национальными флагами в гонках на дистанции в полметра...
«Неделя» приютила и другой мой отвергнутый репортаж из серной бани в Тбилиси, описанной Пушкиным в «Путешествии в Арзрум». Ничего роскошнее таких бань не встречал Александр Сергеевич прежде. Татарин-банщик разложил дорогого гостя на теплом каменном полу: «После чего, — писал Пушкин, — начал он ломать мне члены, вытягивать суставы, бить меня сильно кулаком... После сего долго тер он меня шерстяной рукавицей и, сильно оплескав теплой водою, стал умывать намыленным полотняным пузырем...» Удивился Пушкин тем, как банщики впрыгивают на плечи и пляшут по спине.
Все это я увидел сам: и татарина-банщика, именуемого терщиком, и наволочку подушки, служившую намыленным пузырем, и шерстяную рукавицу. Все испытал, что пережил Александр Сергеевич. Директриса бани, с пониманием выслушав мой пересказ «Путешествия в Арзрум», повелела банщику Мамеду: «Сделай ему все как Пушкину!» Что тот с усердием исполнил, когда я оказался распростертым на каменной лежанке вниз головой. Как вскочил Мамед мне на плечи, как держался на мыльной коже, как не переломал позвоночник — не представляю. Не видел, как топчется на моей спине терщик весом в 72 килограмма. Но все было как во времена Пушкина: удары кулаком, вытягивание суставов, растирание рукавицей, надутая как пузырь наволочка и мыльная радужная пена, смытая ведром серной воды. В книге почетных гостей серной бани «за омолаживающую ванну» Дэвид Рокфеллер выразил благодарность, а Людмила Зыкина — «большое русское спасибо», исполнив под аккомпанемент вечно струящегося источника свои песни. Акустика в тех каменных стенах лучше, чем в любом театре, ее и я испытал не раз.
Редактор «Недели» занимал бывший кабинет главных редакторов «Известий», где работали Бухарин и Аджубей. В кабинете сохранились антикварная мебель и старинные часы, их я увидел, когда сюда главным редактором пришел Виталий Александрович Сырокомский, редактировавший в молодости «Вечернюю Москву». При нем по всей Москве перед киосками «Союзпечати» выстраивались очереди в ожидании свежего номера газеты.
Со школьной скамьи медалиста из Харькова приняли в МГИМО, институт международных отношений. Вышел из него Виталий Сырокомский в жизнь с красным дипломом, историком-международником по Германии. Однако при распределении от заманчивой службы в Берлине по специальности отказался. Поехал по путевке ЦК комсомола во Владимир в молодежную газету «Сталинская смена». Вернувшись четыре года спустя опытным журналистом в Москву, оказался в «Вечерней Москве», редактировал других и много писал сам. Его публикации заметили в КГБ и в МГК партии. На Лубянке предложили службу в Германии. На Старой площади попросили написать доклад для выступления на торжественном заседании первого секретаря МГК. Все тексты, составленные специалистами, он отверг. Вариант журналиста, у которого в кармане лежал билет в Берлин, настолько понравился докладчику, что он неожиданно предложил стать своим помощником, заметив, что после службы в горкоме «дороги все ему будут открыты».
Новоиспеченный помощник заметил мои публикации о Московской битве и, пригласив в горком, представил первому секретарю МГК партии Николаю Григорьевичу Егорычеву, угостившему во время беседы традиционным чаем с сушками. После знакомства меня включили в бригаду, составлявшую доклад для выступления в Кремле по случаю 25-летия разгрома немцев под Москвой. Проще мне было написать статью, чем один абзац того доклада, отнявший несколько дней жизни.
Но ходил в горком я не зря. На стене в кабинете первого секретаря МГК увидел поразивший меня план Москвы в масштабе 1:200. Приложив усилия, получил подобный план «для служебного пользования». После чего, сверяясь с ним, отправиться в затянувшееся на три года путешествие вокруг разросшейся Москвы в границах МКАД.
Егорычев, как и Сырокомский, с медалью окончил школу, с красным дипломом МВТУ. Оба они не щадя живота служили партии, считая ее родной. С обоими она обошлась как злобная мачеха. Николай Егорычев ушел добровольцем на фронт, дважды попадал под пули, воевал на Курской дуге, форсировал Днепр, брал Берлин. Заслужил медаль «За отвагу». Пять лет успешно руководил Москвой. Его уважали и за чин, и за правдивость, порядочность, трудолюбие, привязанность к Москве.
Первый секретарь МГК не дал разрушить церковь Симеона Столпника на Новом Арбате, сохранил предназначенный к сносу храм на Варварке, восстановил Триумфальные ворота на Поклонной горе и похоронил Неизвестного солдата у стен Кремля. Но за высказывания на Пленуме ЦК о ненадежности системы ПВО Москвы, односторонней арабской ориентации на Ближнем Востоке, перепроизводстве баллистических ракет и отсутствии продуманной национальной политики — оказался в кабинете заместителя министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения. Получил, как просил Брежнева, работу по специальности.
Сырокомского и его семью 20 лет мучила загадка, «за что в 1980 году убрали меня из „ЛГ“ и кто именно это сделал? К тому моменту я уже почти 15 лет проработал первым заместителем главного редактора „Литературной газеты“. Я безвылазно сидел в маленьком кабинете — в десять раз меньшем, чем в „Вечерке“, — и читал, читал полосы, оригиналы...». Фактически Сыр, как звали журналисты своего чтимого шефа, безупречно руководил газетой. Главный редактор, сочинявший романы, семь месяцев в году не появлялся на службе, но тираж «ЛГ» неуклонно рос, газету читали миллионы.
Трижды орденоносец, удостоенный Почетной грамотой Президиума Верховного Совета СССР, хотел знать, за что неожиданно для всех и себя лишился доверия. То ли за то, что согласился с мнением западногерманского дипломата, мол, ввод Советских войск в Афганистан был роковой ошибкой; то ли потому, что поговорил по душам в гостях у опального Николая Егорычева о том, что творится в государстве. Последняя догадка оказалась, как узнал много лет спустя, истиной. Квартира бывшего первого секретаря МГК партии прослушивалась КГБ.
Шесть лет не подпускали замечательного журналиста к рулю газеты. С началом перестройки о нем вспомнил вернувшийся секретарем ЦК на Старую площадь Александр Яковлев, за статью в «Литературной газете» отправленный на четырнадцать лет послом в Канаду. В один день Сырокомскому поступило три лестных приглашения — в «Огонек», «Московские новости» и «Известия» — главным редактором «Недели». Выбор пал на нее.
Захиревший еженедельник ожил, заискрился, как при Аджубее. На Пушкинской площади выстраивалась очередь, ожидавшая выхода «Недели». Тираж ее подскочил до двух миллионов, «Союзпечать» бралась распространять еще миллион, но в стране образовался дефицит и на бумагу... В «Неделе», в годы гласности, «тряхнув стариной», главный редактор написал четыре сенсационных репортажа: «Один день Генштаба», «Один день в КГБ СССР», «Один день в МВД СССР» и «Один день Гохрана». По его словам, «все четыре репортажа открывали читателям такие тайны, которые до того были недоступны журналистам». В редакции острили, что его серию материалов можно было бы озаглавить «Там, где не ступала нога человека». Все так, за одним уточнением: в Гохране удалось побывать мне. Начальник Гохрана Николай Яковлевич Баулин шутил, что богаче Рокфеллера. Этот главный хранитель сокровищ СССР разрешил в сопровождении трех молчаливых сотрудников посмотреть в подземном хранилище легендарные алмазы «Орлов», «Шах» и другие уникальные камни. Часть их с тех пор выставлена в Кремле.
За год до развала СССР главный редактор «Недели» перепечатал из журнала «Известия ЦК КПСС» полный текст исторического доклада Хрущева о «культе личности». Казалось бы, благое дело. Но даже в пору гласности в ЦК партии возмутились, что некогда тайный доклад о чудовищных репрессиях прочтут миллионы. Пришлось не по своей воле из «Недели» уйти, как некогда из «Литературной газеты».
Потому развалился Советский Союз, что народ жить во лжи устал. И еще потому, что такие яркие личности, как Аджубей, Егорычев и Сырокомский, государству оказались ненужными.
Давайте обсудим ваш вопрос или заказ!
Изложите суть Вашего запроса в области генеалогии. Наши специалисты обязательно свяжутся с Вами, проконсультируют и найдут наиболее подходящее решение.