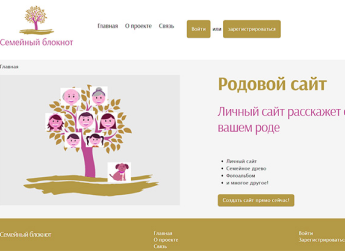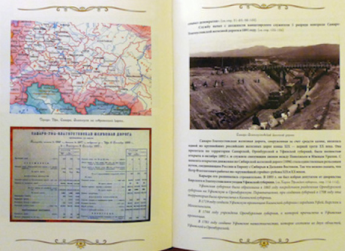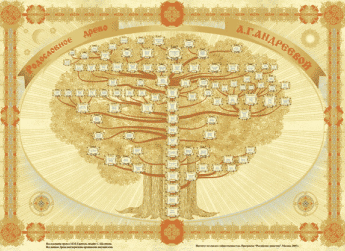Космополитизм, марризм и прочие «грехи»: отечественные этнографы и археологи на рубеже 1940—1950-х годов
Борьба против космополитизма, широко развернувшаяся в 1940-х годах, напрямую затронула советскую науку. Из политической культуры большевиков в академическую среду пришли ритуалы «дискуссий», нередко сводившиеся к травле наиболее талантливых и наименее ангажированных ученых, а «буржуазные» гуманитарные науки были подвергнуты идеологической переориентации. Такие дисциплины как этнография и археология и вовсе оказались под угрозой «отмены», и единственной возможностью их сохранить стала «марксизация» - попытка вписать «оторванные от действительности» науки в идеолого-политический контекст эпохи. «Полит.ру» публикует статью Сергея Алымова, в которой автор рассказывает о состоянии советской этнографии и археологии до и после «марксизации», а также о деятельности активных участников «дискуссий»: выдающегося этнографа и востоковеда С.П. Толстова и одного из лидеров советской археологии В.И. Равдоникаса. Статья опубликована в новом номере журнала «Новое литературное обозрение» (2009. № 97).
Вторая половина 1940-х годов была временем массированных пропагандистских кампаний, затрагивавших практически все сферы деятельности советских интеллектуалов. Основной причиной их развязывания, по единодушному мнению историков, было вызванное началом «холодной войны» стремление Сталина и его окружения идеологически мобилизовать общество на основе «советского патриотизма», который должен был противостоять любым проявлениям «низкопоклонства перед Западом». В 1947 году борьба против космополитизма напрямую затронула и науку: началось «дело» профессоров Н.Г. Клюевой и Г.И. Роскина, связанное с неудавшимся сотрудничеством советских и американских ученых в борьбе против рака. В том же году идеологические игры развернулись вокруг книг Г.Ф. Александрова «История западноевропейской философии» и Е.С. Варги «Изменения в экономике капитализма в итоге Второй мировой войны», критиковавшихся так или иначе за позитивные (или «объективистские», то есть лишенные должного классового заострения и «партийности») оценки «Запада»[1]. Сам ход организованных вскоре в ряде гуманитарных дисциплин печально известных «дискуссий», как убедительно продемонстрировал А.Б. Кожевников, не имел некой единой стратегии; их результаты определялись в большой мере ситуативно — под воздействием диспозиций, сложившихся в каждой отдельной дисциплине, и умения основных акторов «играть по правилам». Для описания этих событий Кожевников предложил использовать понятие «ритуала», сочетающего следование правилам с открытостью и непредсказуемостью результата. Ритуалы «дискуссий» и «критики и самокритики» пришли в академическую среду из политической культуры большевиков[2].
Идеологические концепты, вбрасываемые в научное поле, ставили ученых перед необходимостью поиска виновных и коллективного «очищения». Дискуссии эти, зачастую сводившиеся к травле наиболее талантливых и наименее ангажированных ученых, являются, конечно, крайне печальной страницей в истории советской науки, но хранящиеся в архивах стенограммы заседаний донесли до нас — помимо обязательной «формульной» трескотни, обличений и покаяний — также целый пласт своеобразной интеллектуальной рефлексии. Они предоставляют нам — при тщательной и этически нагруженной исследовательской работе с этим все еще горячим материалом — возможность более рельефно обрисовать тогдашнее состояние отдельных дисциплин, обнаружить скрытые проблемы и полнее представлять мотивации и поступки главных действующих лиц. Попыткой такого рода в отношении этнографии и археологии и является эта статья. Наиболее подробно мы рассмотрим два персональных «случая» непосредственных и крайне активных участников этих событий: видного археолога, этнографа и востоковеда, многолетнего директора Института этнографии Сергея Павловича Толстова и одного из лидеров советской археологии, на тот момент директора Ленинградского отделения Института истории материальной культуры Владислава Иосифовича Равдоникаса.
Археология и этнография всегда были «родственными» дисциплинами, объединенными как логически, так и исторически. Обе науки в значительной степени специализировались на изучении наиболее раннего, первобытного периода в истории человечества — своего рода «введения» в гражданскую историю. Обе работали главным образом с неписьменными источниками: раскопанными археологами «вещами» и сделанными этнографами записями устных сообщений «информантов». И археология, и этнография в отличие от таких классических гуманитарных наук, как история или филология, институциализировались как самостоятельные дисциплины лишь во второй половине XIX века. Параллелизм в их развитии в первые десятилетия ХХ века только усилился, что было обусловлено рядом факторов. Многие этнографы как дореволюционного, так и советского поколений (достаточно назвать имена Д.Н. Анучина, Б.А. Куфтина, С.И. Руденко, С.П. Толстова, Л.Я. Штернберга) были одновременно археологами либо активно привлекали археологические материалы в своих исследованиях. Это, кстати, позволило многим из них в 1930-е годы успешно перейти из этнографии, переживавшей не лучшие времена, в археологию. С другой стороны, научный проект Н.Я. Марра, к началу 1930-х годов не только оказавшегося во главе центрального археологического института страны, Государственной академии истории материальной культуры (ГАИМК, после 1937 года — Институт истории материальной культуры), но и ставшего фактически основным и непререкаемым авторитетом в данном круге наук, предполагал преобразование и еще большее сближение археологии и этнографии, поставленных на службу его яфетической теории.
Рубеж 1920—1930-х годов стал временем резкой и насильственной «марксизации» науки, осуществленной поколением радикально настроенных молодых людей, многие из которых в тот момент либо были аспирантами и студентами, либо вообще не имели серьезной профессиональной подготовки. Советская историография, естественно, рассматривала этот процесс как благотворное «овладение марксизмом» в ходе творческих дискуссий, некоторые постсоветские авторы видели тут исключительно негативные стороны, не скупясь на резкие характеристики «зеленых юнцов» и утверждая, что «они думали не столько о науке, сколько о быстром выдвижении на места, освобождаемые ими от “буржуазных спецов”»[3]. Действительно, эти события (наиболее важными среди которых являлись Совещание этнографов Москвы и Ленинграда в апреле 1929 года и Всероссийское археолого-этнографическое совещание в мае 1932 года) приводили к таким эксцессам, как едва не реализовавшееся предложение отменить данные «буржуазные» науки вообще, а деятельность этнографов и археологов рассматривать исключительно как источниковедческую обработку характерных для них видов исторических источников.
Следует, однако, учитывать, что пришедшее во второй половине 1920-х — начале 1930-х годов поколение было далеко не однородным. К нему принадлежали как люди, способные в лучшем случае к «схоластическим» рассуждениям о формациях, их противоречиях и движущих силах, так и «конструктивные» марксисты (к примеру, Н.М. Маторин, С.А. Токарев, С.П. Толстов в этнографии, А.В. Арциховский, С.В. Киселев, А.П. Окладников, В.И. Равдоникас в археологии)[4]. Трудность общей оценки ситуации еще и в том, что некоторые из разоблачителей, «отличившиеся» в начале 1930-х резкими идеологизированными обвинениями в адрес «буржуазной» науки и своих коллег, впоследствии стали действительно продуктивными и авторитетными учеными. Кроме того, следует учитывать, что одновременно в науку пришел целый ряд молодых ученых (к примеру, плеяда этнографов-североведов, учеников Л.Я. Штернберга и В.Г. Богораза), никак не проявивших себя в политизированных схватках, но воспринимавших марксизм как единственно возможную парадигму и уверенных в его эвристической ценности.
«Марксизация», естественно, отразилась на представлениях о предмете и задачах этнографических и археологических исследований. Прежнее разнообразие школ и направлений (культурно-историческая школа в этнографии или палеоэтнологическая — в археологии, а также эволюционизм) уступило место попыткам вписать эти науки в общеобязательное русло исторического материализма. На протяжении 1930-х годов этнография понималась как наука о доклассовом (родовом) обществе и его пережитках в позднейших формациях. Выходившие в эти годы монографии были посвящены главным образом социально-экономическому анализу рассматривавшихся обществ и их формационной «атрибуции». Археологи также переключились главным образом на реконструкции хозяйства и социально-экономических отношений древности.
С середины 1930-х годов начался отказ от исключительно социологического подхода, на 1937 год пришлось и физическое устранение многих теоретиков ГАИМК времен «Великого перелома». Их деятельность была объявлена вредительством и «социологической трескотней»; тогда же ученых призвали начать «разработку конкретных исторических проблем»[5]. Это, несомненно, было вызвано реабилитацией в 1934 году гражданской истории, явившейся одним из эпизодов общего поворота советской пропаганды, идеологии и науки от классовой к национально-патриотической тематике[6]. В этом контексте основной задачей как археологии, так и этнографии становится развертывание «этногенетических» штудий, позволяющих воссоздать «древнюю историю» народов СССР, либо (это касалось прежде всего этнографов) написание истории народов ранее бесписьменных. В 1938 году состоялось междисциплинарное заседание по вопросам этногенеза, сформировавшее специальную комиссию для стимулирования работ в этом направлении, а ГАИМК стал центром создания многотомного обобщающего труда «История СССР»; уже в 1939 году в стенах академии подготовили двухтомник с характерным названием «История СССР с древнейших времен до образования древнерусского государства»[7]. Таким образом, в конце 1930-х годов произошла идеологическая реактуализация археологии, способствовавшая — наряду с отказом от «абстрактного социологизирования» — тому явлению, которое недавно скончавшийся А.А. Формозов назвал «стабилизацией на новой основе». В этнографии конца 1930-х годов происходили схожие процессы. Востоковед В.В. Струве, ставший директором Института этнографии в 1937 году, негативно отзывался об идеях начала 1930-х и пытался найти легитимацию этнографии в разработке категории племени (то есть в изучении народов, стоящих на первобытно-общинном уровне развития), одновременно указывая и на необходимость изучения социалистических преобразований, происходящих, в частности, и среди этих «отсталых в прошлом» народов. Однако подобные идеи получили развитие уже в послевоенный период, вместе с новым представлением об этнических особенностях или «этносе» как главном предмете исследования этнографов.
Мы уже упоминали о том, что этнографию и археологию сближало в рассматриваемый период значительное влияние, оказываемое на проводившиеся в них исследования так называемым «новым учением о языке» Н.Я. Марра[8]. Влияние это было обусловлено рядом вне- и внутринаучных факторов. Для специалистов по древностям Марр был человеком, стоявшим у истоков советской археологии со времени основания ГАИМК в 1918 году. Во главе этнографии в 1930—1950-е годы также стояли либо прямые ученики Марра (И.И. Мещанинов), либо его убежденные последователи (Н.М. Маторин, С.П. Толстов). Авторитетный исследователь «марризма» В.М. Алпатов рассматривает его в первую очередь как «научный миф», обращая внимание главным образом на идеолого-политические механизмы складывания непререкаемого авторитета Марра, который «делал все возможное, чтобы его высказывания принимались на веру как можно более широким кругом лиц»[9]. Однако он же указывает, что «новое учение» пользовалось популярностью среди ученых «смежных» специальностей — археологов, этнографов, фольклористов, привлеченных эвристическим потенциалом (или иллюзией такового) марровских идей. Представление, что многие серьезные ученые становились марристами исключительно из конъюнктурных соображений либо из-за непрофессионализма, не позволяет всерьез поставить вопрос о том, что же так привлекало археологов и этнографов в этом крайне запутанном «учении». Кроме того, нельзя сказать, что для этнографов и археологов «марризм» был строго обязателен: многие исследователи обходились без Марра и в годы наибольшей актуальности его теории.
В заключение этого краткого вступительного очерка приведем два свидетельства современников, этнографа С.В. Иванова и археолога М.К. Каргера, оценивавших на рубеже 1948—1949 годов пройденный их науками в минувшем десятилетии путь:
Необходимая связь с жизнью начала ощущаться на историческом фронте в конце тридцатых годов текущего столетия, когда возникли колхозы и началась борьба с басмачеством, ставился вопрос о вредности пережитков, о борьбе за раскрепощение женщины, о борьбе с религией, — тогда впервые этнографы почувствовали себя близко с жизнью советской страны и оказались в тесной увязке с общеполитическими вопросами. Одновременно закладывались теоретические основы советской этнографии[10].
…Бушевавшие в нашей науке в тридцатых годах нашего столетия страсти, вызванные острой и весьма тогда злободневной и необходимой борьбой за перевооружение нашей науки, за ее новое оснащение, за пересмотр самых основных, самых краеугольных положений нашей науки, вся эта <…> борьба почему-то, без всяких на то оснований затихла. Почему? Существуют различные мнения по вопросу о том, когда она затихла, но это также не существенно, может быть, историки нашей науки уточнят — затихла ли она в тридцатых годах или в начале первого года сороковых годов нашего века; важно, что уже к началу войны на фронте археологической науки наступило ничем не оправданное чувство самоудовлетворения, чувство достигнутого, чувство завоевания больших и новых серьезных позиций, которое как будто бы исключало возможность и необходимость дальнейшей борьбы за повышение, за методологическое перевооружение нашей науки. И как это не странно, именно в годы войны (это уже бесспорно сороковые годы нашего века) в нашу науку постепенно, шаг за шагом, стали пробираться вновь… такие отрыжки буржуазной методологии, борьба с которыми так воодушевляла всех нас, во всяком случае многих из нас, в тридцатые годы нашего столетия. <…> Многим показалось, что вообще вновь вернулись если не вполне старые, то отчасти старые времена, многим показалось, что жить стало легче в науке[11].
Космополитизм
В послевоенный период советской этнографией руководил крупный востоковед, археолог и этнограф, исследователь Средней Азии, автор фундаментальной монографии «Древний Хорезм» Сергей Павлович Толстов (1907— 1976). Он принадлежал к поколению, пришедшему в науку во второй половине 1920-х годов, и сочетал хорошую профессиональную подготовку с большой активностью в деле марксизации науки. Став в 1939 году во главе вновь образованной кафедры этнографии МГУ, а в 1942 году — во главе Института этнографии (далее — ИЭ), он полностью контролировал развитие этой науки и «представлял» ее перед партийным начальством. Вокруг него в Москве сформировался руководящий костяк коллектива (П.И. Кушнер, М.Г. Левин, С.А. Токарев, Н.Н. Чебоксаров и др.); в Ленинграде политику Толстова проводил директор Ленинградского отделения института Л.П. Потапов. Как бы закрепляя создавшееся положение, Толстов в 1946 году провозгласил сложившейся «советскую школу в этнографии», главной отличительной чертой которой назвал историзм, требующий «конкретного исторического исследования культуры каждого народа»[12]. Определяя развитие советской этнографии, ее лидер исходил как из собственных общенаучных взглядов, так и в значительной степени из тактических, а порой и конъюнктурных соображений, вписывая свою науку в непростой идеолого-политический контекст эпохи.
Наиболее очевидной проблемой в этом отношении была необходимость переориентировать этнографию с изучения исключительно «пережитков» первобытно-общинного строя на более широкий круг вопросов, диктовавшихся современностью, главным содержанием которой принято было считать «социалистическое строительство». Впервые об этом заговорили на общем собрании сотрудников института по вопросам, связанным с постановлениями ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», состоявшемся 30 августа 1946 года. Точно так же, как проявивший в своих сочинениях «нигилизм и зубоскальство» Зощенко, этнографы рисковали исказить советскую современность, печатая статьи исключительно об архаичном быте, магических и религиозных обрядах. У читателя, в том числе заграничного, сетовал главный идеолог этнографического изучения современности П.И. Кушнер, может создаться ложное впечатление, «будто в современной русской деревне имеют место похороны русалки, а в современной бурятской деревне жители занимаются шаманизмом»[13]. Таким образом, был выявлен основной недостаток — «архаизация» этнографами культуры и быта изучаемых народов и их невнимание к тому, «как старое превращается в новое, сохраняя этнические черты»[14].
Сетования на «архаизацию» продолжились и на трехдневном совещании, созванном в октябре 1948 года в связи с результатами знаменитой августовской сессии ВАСХНИЛ и посвященном анализу «состояния научной работы Института и ее идеологической и практической направленности в интересах социалистического строительства». Несмотря на то что в 1948 году последовало распоряжение дирекции всем экспедициям уделять основное внимание изучению современности, некоторые этнографы продолжали утверждать: «…наша задача — первобытная история, так что нечего нас тянуть в ту область, которой мы не понимаем и в которой не являемся специалистами». Отметив эти настроения, Толстов назвал их отражением влияния буржуазной идеологии[15]. Другими способами уклонения от описания современности были «формализм» и «стремление уйти в чистое описание» (эмпиризм). Здесь под огонь критики дирекции попали крупные этнографы-сибиреведы А.А. Попов и Г.М. Василевич. Приведем эпизод из обсуждения их трудов:
Л.П. Потапов: …особенно характерной в этом отношении является, скажем, работа нашего почтенного сибиреведа А.А. Попова, который, как правило, дальше описания не идет в своих работах, да еще пропагандирует это, пустив крылатое словечко, что «этнография — это фотография», что вот я сфотографировал — и мое дело сделано… Проф. С.П. Толстов: Кривая фотография-то получается![16]
«Безыдейность» такой позиции, с точки зрения Толстова, состояла в том, что, давая описания вместо исследований, этнограф как бы снимает с себя ответственность за то, как будут использованы его материалы: «Вот он собрал и опубликовал. Кому это пригодится? [А в ответ:]“Мне все равно!!” Может быть, будущие шаманы будут разрабатывать свои чертослужения на основании сборника антропологии в Институте этнографии!!!»[17]
Нежелание ряда ученых изучать светлое настоящее народов СССР объяснялось, конечно, не столько отсутствием опыта, сколько жесткой идеологизированностью этой области. Анализируя публикации конца 1940-х годов, в крайне мажорных тонах повествующие о переходе народов Севера от первобытности к социализму, Ю. Слезкин назвал их «социалистическим реализмом в общественных науках»[18]. И дело не только в «духе времени»: подводя итоги полевой работы за 1948 год, сам Толстов указал на два художественных произведения — «Весна в Сакене» Г.Д. Гулиа и «Алитет уходит в горы» Т.З. Семушкина, которые на абхазском и чукотском материалах показывают «замечательный путь, которым идет советский народ <…> преодолевая вековые пережитки, вековую ультрапатриархальщину и отголоски влияния бывших эксплуататорских классов, религиозную идеологию и т.д.», и признал: «…мы, этнографы, в этом отношении беспардонно отстали от литераторов»[19]. Ученым, которые считали, что не смогут «дать материал» по современности из-за обилия увиденных ими в экспедициях «безобразий», Толстов отвечал, что если этнограф видит только «отрицательные стороны», то у него «плохо ориентированный взгляд» и ему надо помочь перестроиться на нужный лад[20].
Известно, что от кампании борьбы с космополитизмом в этнографической науке в наибольшей степени пострадали выдающиеся этнографы и фольклористы П.Г. Богатырев, Д.К. Зеленин и В.Я. Пропп. Всех троих сложно причислить к «мейнстриму» советской науки. Так или иначе адаптировавшись к ее реалиям, они продолжали занимать достаточно независимую позицию и, высказывая свою лояльность марксизму, оставляли за собой право на собственное неортодоксальное его понимание. Тем не менее и в позиции этнографов-ортодоксов, критиковавших своих коллег, была определенная логика. Мы можем (правда, с некоторой долей условности) разделить чисто идеологическую критику, высказывавшуюся, как правило, непрофессионалами — журналистами или недоучившимися аспирантами, — и более академическую, также, конечно, не лишенную идеологических моментов. Пропп подвергся всевозможным «проработкам» в ЛГУ как последователь методологии А. Веселовского, был уволен из ИРЛИ, однако остался на преподавательской работе. Его знаменитая монография «Исторические корни волшебной сказки» обсуждалась на заседании сектора фольклора ИЭ 9 февраля 1948 года. Вскоре в «Советской этнографии» появилась резко отрицательная рецензия на эту книгу М. Кузнецова и И. Дмитракова. Эти события достаточно подробно описаны в историографии, поэтому есть смысл остановиться на поставленном выше вопросе об «академической» аргументации советских этнографов.
Может показаться странным, однако представители «советской школы в этнографии» восприняли «Исторические корни волшебной сказки» как отражение этапа, уже пройденного их наукой в 1930-е годы и отмеченного «схематизмом» и «вульгарным социологизмом». Аргументы выступавших в дискуссиях серьезных этнографов (П.И. Кушнер, С.А. Токарев, С.П. Толстов) сводились к обвинениям ленинградского автора в отсутствии историзма — главной ценности, проповедовавшейся Толстовым и его единомышленниками. Выводя сказку из обряда инициации, Пропп, по словам Толстова, «даже не пытается установить, существовали ли у русских (или восточных славян в целом) в период, когда создавалась сказка, те социальные институты и обряды, с которыми он ее сопоставляет. Истории как таковой для него не существует, есть лишь некая неизменяемая схема первобытного общества…»[21]. Отрывая генезис от истории, вторил ему Кушнер, Пропп получает возможность легко сравнивать русский и австралийский фольклор, игнорируя «конкретную историческую и географическую обстановку»[22]. Токарев, также отмечая «вульгарно-социологические взгляды» фольклориста, оспаривал его утверждения о том, что сказка появляется как результат разложения обряда и отсутствует у первобытных народов[23]. Все они — в духе проходившей в то время «с подачи» Толстова критики теории «дологического мышления» Л. ЛевиБрюля — крайне отрицательно реагировали на «выведение» искусства из мифа. И наконец, последнее: в статье «Специфика фольклора» (1946) Пропп сводил задачи этнографии к изучению первобытности — представление, от которого тогдашний этнографический «истеблишмент» всеми силами стремился избавиться[24].
Обвинение в поддержке тезиса о первобытности как основном предмете этнографии и соответственном ее «отмирании» в современном обществе было предъявлено и выдающемуся этнографу-славяноведу Д.К. Зеленину. Кроме того, он имел неосторожность выступить в 1947 году с докладом, объяснявшим общность элементов костюма финно-угров и русских общими для них заимствованиями с Запада. В данном случае, видимо, сыграли роль и старые «счеты» Толстова с Зелениным, на которого он нападал еще во времена «марксизации» этнографии[25].
Из троих названных ученых П.Г. Богатырев был, несомненно, наиболее «космополитичным». Прожив долгое время в Праге в тесном научном общении с представителями русской иммиграции, он открыто объявлял себя сторонником структурно-функционального метода, отношения которого с марксизмом были отнюдь не ясны. Сближение его метода с английским функционализмом, ставшим, наряду с американской психологической школой, главной мишенью крайне обострившейся и радикализировавшейся критики «буржуазной науки», было неизбежным[26]. Исследователи отмечают, что метод Богатырева вырабатывался независимо от деятельности основателя функционализма Б. Малиновского, однако общий для них акцент на синхронный анализ делал его неприемлемым для советских этнографов. «…Сопоставление функциональной школы и функционально-структурального метода, — отмечал Толстов, — показывает, что у них общая основа: тот же отказ от исторических обобщений, тот же отказ признать фольклорные и этнографические материалы историческим источником»[27]. Результатом этого, а также следствием настойчивого отказа Богатырева выступать с «самокритикой» явилось его смещение с должности заведующего сектором фольклора ИЭ и последующее увольнение[28].
Поведение Толстова объясняется, конечно, не только его научными взглядами. Позиция директора Института этнографии при резко возросшей централизации делала его ответственным за существование и развитие «своей» науки. Опыт начала 1930-х годов подсказывал, что «отмена» этнографии вполне возможна. В 1947—1948 годах появляется целая серия газетных статей с обвинениями этнографов и фольклористов (не только Проппа и Богатырева, но и Н.П. Гринковой, В.Ю. Крупянской, В.И. Чичерова и других — главным образом сотрудников ИЭ) в отрыве от действительности, формализме, неучастии в социалистическом строительстве и прочих грехах, с которыми он активно боролся среди своих подчиненных[29]. Тогда же «Литературная газета» — главный рупор этих обвинений — опубликовала статью Л. Климовича «Плохая фантастика вместо науки», в которой обвинения в «отрицании самобытности русского народа» и даже в «издевательстве» над русскими национальными образами (в частности, Ильи Муромца) были адресованы уже самому Толстову[30]. Это свидетельствовало как о том, что от подобных обвинений не был застрахован никто, так и о том, что, во избежание более серьезных неприятностей, этнографии следовало активно приспосабливаться к господствующей идеологии.
Кампания борьбы с космополитизмом могла быть опасна и даже иметь самые печальные последствия отнюдь не только для аутсайдеров советской гуманитаристики. Об этом ярко свидетельствует случай археолога Владислава Иосифовича Равдоникаса (1894—1976). Как и Толстов, он пришел в науку в конце 1920-х годов (руководил им как аспирантом непосредственно Н.Я. Марр) и стал одним из наиболее ярких представителей поколения молодых марксистов, а также самым радикальным критиком «буржуазной» археологии, называвшейся в те годы «вещеведением». Деятельность его этим отнюдь не ограничивалась: Равдоникас был, несомненно, одним из самых влиятельных и продуктивных археологов своего времени. Он известен как автор двухтомника и ряда статей, посвященных наскальным изображениям Карелии. Основной сферой его интересов было историческое прошлое севера Восточной Европы. Равдоникас открыл первый на этой территории неолитический могильник на Оленьем острове, проводил раскопки такого важного для выяснения древнейшей истории Руси памятника, как Старая Ладога, оставил ряд обобщающих работ. Известен он также археологическими исследованиями в Крыму и попыткой решить «готскую проблему» с применением гиперавтохтонистского марристского подхода. Кроме работы в ГАИМК, он заведовал кафедрой археологии в ЛГУ (в 1946 году он стал членом-корреспондентом АН и действительным членом Норвежской академии наук, а 1 января 1947 года был назначен на пост заведующего Ленинградским отделением ИИМК).
22 октября 1948 года Равдоникас выступил на Ученом совете Ленинградского отделения с докладом «О положении в археологической науке и о недостатках в работе ИИМК АН СССР». Ссылаясь на результаты августовской сессии ВАСХНИЛ и философской дискуссии, он высказал мнение о том, что в археологии, как и в биологии, существуют два направления: передовое, понимающее археологию как историческую науку, развивающее учение Н.Я. Марра и уделяющее особое внимание проблемам этногенеза, и формалистическое вещеведческое, отказывающееся от Марра и исторических реконструкций в археологии. Представителями первого были названы Б.Б. Пиотровский, Б.А. Рыбаков, С.П. Толстов, П.Н. Третьяков и другие, представителем второго — заведующий кафедрой археологии МГУ А.В. Арциховский. Критике его учебника «Введение в археологию» Равдоникас посвятил значительную часть доклада: «Нет периодизации общественно-исторического процесса, нет вопросов конкретного общественно-исторического развития, совершенно не затронуты проблемы этногенеза, по отношению к которым, как мы увидим, автор занимает ту же самую позицию нигилизма»[31]. «…Аполитичность, безыдейность, формализм, то есть как раз те явления, против которых предостерегает партия всех работников идеологического фронта, — вот что в полной мере представлено в книге А.В. Арциховского»[32]. Равдоникас также критиковал своих коллег (П.И. Борисковский, С.И. Руденко) за эмпиризм, отсутствие «критики и самокритики» и даже за идеализацию прошлого «в угоду вредным националистическим тенденциям» (Б.А. Рыбаков)[33]. Ленинградские археологи поддержали Равдоникаса. В принятой ими резолюции говорилось о существовании в советской археологии направления, характеризующегося «безыдейностью и раболепием перед буржуазной идеологией», а также об опасности возрождения «формально-вещеведческой археологии» и «некритического отношения к прошлому русской науки»[34].
«Введению в археологию», читавшемуся Арциховским в Московском университете, Равдоникас очевидным образом противопоставлял собственный учебник «История первобытного общества» (в 1948 году вышла вторая его часть), основанный на курсе, который он вел для студентов в Ленинградском университете. Эти учебники действительно различались: если Арциховский представлял «чистую» археологию, то Равдоникас стремился на основе археологических и этнографических данных и опираясь на моргановскую схему создать именно историю первобытного общества, что считалось более «марксистким». Эти учебники, естественно, сравнивались, и некоторые серьезные ученые высказывались в пользу последнего. Впрочем, обсуждение «Истории первобытного общества» в Институте этнографии привело к тому, что этнографы сочли эту первую попытку создания марксисткой истории первобытного общества на археолого-этнографической основе неудачной[35].
Как бы то ни было, в затеянной ее автором идеологической игре таилась опасность для всего археологического цеха. Критика Равдоникаса строилась таким образом, что Арциховский обвинялся в следовании традициям своего учителя В.А. Городцова, а автором хвалебной рецензии на его учебник был заместитель директора ИИМК москвич С.В. Киселев. Нетрудно видеть в этом противостоянии отражение соперничества ленинградской и московской школ и, соответственно, отделений ИИМК. Даже поддержавший Равдоникаса ленинградец М.И. Артамонов заметил, что локализация им «прогресса» и «реакции» соответственно в Ленинграде и Москве неправильна и может превратить принципиальную борьбу в «местническую склоку»[36], а участвовавший в обсуждениях доклада этнограф Н.А. Бутинов с иронией отозвался о них как о «чем-то вроде футбольного матча одноклубников: ИИМК (Ленинград) — ИИМК (Москва)»[37].
Московское отделение ИИМК во всеоружии подготовилось к отражению «атаки»: об этом свидетельствует даже тщательно проработанная синим карандашом копия стенограммы ленинградского заседания, хранящаяся в Москве. В результате состоявшийся в столице «ответный матч» резко отличался от «тренировки» в Ленинграде. 13 ноября Равдоникас повторил свой доклад в Москве, однако вслед за выступлением «правой руки» Равдоникаса А.П. Окладникова председательствовавший С.В. Киселев предоставил слово москвичам — А.Я. Брюсову и А.Л. Монгайту. Последний сказал главное:
…я считаю, что одно положение его (Равдоникаса. — С.А.) доклада должно быть отвергнуто с самого начала — это попытка выделить якобы существующие два направления в археологической науке. Это неправильно ориентирует аудиторию. Речь идет об отдельных ошибках отдельных ученых, но вовсе не о существовании двух направлений в археологической науке, и совсем уже неудачна, например, в данном случае попытка представить дело так, как это обстояло в биологической науке. Там вопрос был принципиальный, люди принципиально отстаивали идеалистическую точку зрения. Здесь никто из советских археологов не отказывается от учения Марра, ни один из археологов не пытался уйти с позиций диалектического и исторического материализма. Речь идет о том, что ряд ученых в своих работах допустил те или иные ошибки, а вовсе не об определенном направлении. Попытка представить отдельные ошибки отдельных ученых как два течения в советской археологии тенденциозна и ничем не оправдана[38].
После этого только двое (А.Н. Бернштам и М.И. Артамонов) решились безоговорочно поддержать Равдоникаса, остальные же (всего выступило более двадцати человек) либо резко высказывались против основного тезиса, либо предпочитали завуалированно говорить о двух «тенденциях», но не направлениях. В принятой резолюции были названы многие указанные Равдоникасом недостатки, однако о «двух направлениях» не было ни слова. Более того, с подачи Киселева в ней было записано:
В книге В.И. Равдоникаса «История первобытного общества», стремящейся изложить марксистско-ленинскую концепцию о первобытнообщинном строе, буржуазные теории и формалистические схемы излагаются весьма подробно (теории Тейлора, Леви-Брюля, Фрезера, схема «культур» Дешеллетта и др.), а разоблачение их дается, наоборот, весьма сокращенно или отсутствует вовсе. Зарубежный материал привлекается с излишней детальностью и преобладает над материалом по археологии и этнографии СССР. При этом постоянно перечисляются даже третьестепенные иностранные ученые, в то время как советские археологи не называются. Благодаря этому достижения советской науки предстают перед читателем обедненными и анонимными[39].
Очевидно, что список этих ошибок был составлен с учетом характера разгоравшейся кампании по борьбе с космополитизмом и низкопоклонством перед Западом. Член-корреспондент АН СССР и действительный член Норвежской академии наук Равдоникас был удобной фигурой для подобных обвинений, поэтому опасного смутьяна было решено нейтрализовать его же оружием. Проходившие 29—30 марта в Москве и 6 апреля 1949 года в Ленинграде заседания Ученого совета ИИМК, посвященные обсуждению доклада директора института А.Д. Удальцова «О буржуазном космополитизме в исторической науке», стали заключительным этапом этой истории. Перечислив обнаруженных в исторической науке космополитов: «группу академика Минца [и] Разгона», Н. Рубинштейна и других, Удальцов обрушился на Равдоникаса — единственного среди археологов носителя целой «системы космополитических ошибок». 11 марта 1949 года Равдоникас подал в отставку с поста заведующего Ленинградским отделением ИИМК и попросил назначить на эту должность секретаря парторганизации А.П. Окладникова, который был вынужден сделать содоклад на заседании в Ленинграде, прибавив к уже названным еще ряд ошибок бывшего руководителя[40].
Равдоникасу припомнили все: и норманизм (в особенности изданную в 1930 годы в Швеции на немецком языке книгу «Норманны времен викингов и Ладожская область»), и 150 ссылок на зарубежных ученых в «Истории первобытного общества» при игнорировании советских археологов и археологических материалов, и «некритическое использование реакционной теории дологического мышления Леви-Брюля». Окладников красочно продемонстрировал уничижительные характеристики, которыми Равдоникас наделял отечественных археологов в своей работе 1930 года «За марксистскую историю материальной культуры». Русская археология, по словам Окладникова, представала в этой работе «жалкой практикой собирателей-коллекционеров или, в лучшем случае, деятельностью кучки беспомощных подражателей западным образцам и плагиаторов» — характеристика, в эпоху безудержного поиска приоритета русской науки звучавшая чудовищным кощунством[41].
В ходе обсуждения в коллективе, в котором Равдоникас работал около двадцати лет, естественно, звучали и голоса в защиту, призывы вспомнить о его заслугах, объективно оценить его позицию в норманнской проблеме. Они нашли отражение даже в заключительной речи Окладникова, пытавшегося провести тонкую грань между «системой космополитических взглядов, которая определяет политическое лицо человека», и «серией ошибок» космополитического характера[42]. В то же время во многих выступлениях содержалась попытка «психологического» объяснения того, что привело ученого к этим ошибкам: Равдоникас, утверждали некоторые ораторы, оторвался от коллектива (один из выступавших употребил даже такие сильные выражения, как «хамское поведение» и «фюрерство»[43]):
Упоенный своими успехами, он забыл о коллективе, в котором работал, в котором вырос, поставил себя над ним и оказался вне коллектива. Решив, что прошлые заслуги навечно обеспечивают ему передовое место, он возомнил себя вождем, малейшую критику расценивал как оскорбление или как проявление личной неприязни. Отсюда — индивидуализм, высокомерие, пренебрежение мнением коллектива, отрыв от него, самовлюбленность, то есть целый букет мелкобуржуазных свойств[44].
«Отрыв от коллектива» вменялся в вину и Д.К. Зеленину, который «проходит мимо заседающего сектора два раза в библиотеку или за зарплатой»: коллективистская советская культура проявляла себя и в области научного быта[45]. Еще одной чертой, которая требовалась от представителей этой культуры, была способность к «самокритике», то есть принятию решения коллектива, каким бы оно ни было. Равдоникас, кажется, стремился выполнить это требование. К стенограмме посвященного ему заседания прилагается его заявление с обещанием дать развернутую критику своих ошибок по выздоровлении (он не присутствовал на заседании, сославшись на болезнь), в его архивном фонде содержатся наброски соответствующего доклада, так им и не произнесенного[46]. Вскоре последовало дезавуирование Сталиным авторитета Марра, ставшее для Равдоникаса, по его собственному признанию, «одним из самых сильных потрясений во всей… жизни — не только научной, но и личной»[47].
В результате ученый совершил, пожалуй, один из наиболее радикальных поступков в истории советской науки: он полностью (за исключением нескольких лет во второй половине 1950-х годов) ушел из профессии и еще почти двадцать лет жил в Ленинграде своеобразным отшельником: «В 1949 году, передав заведование отделением Окладникову, он удалился от науки совсем, нигде не появлялся, кроме концертов в Капелле, замкнулся дома, гостей угощал “водкой с горячим чаем” без закуски, разговаривал только о международной политике, отпустил окладистую бороду и называл себя “старцем Равдоникасом”»[48]. Мы не будем комментировать различные психологические объяснения этого шага, а также различные характеристики (вплоть до утверждения А.А. Формозова — со слов Арциховского, — будто Равдоникас был «внедрен» в археологию некими «могучими силами»[49]) этой неоднозначной фигуры, продолжающей привлекать пристальное внимание историков археологии[50]. Однако один момент следует учитывать. Формозов характеризовал Равдоникаса главным образом как «разрушителя», которому нужны были лишь «митинги, дискуссии, разоблачения, погромы», зато «нормальная» научная работа его, напротив, не очень привлекала[51]. То, что это не вполне справедливо, показывают не только его многочисленные труды, но и опубликованные И.В. Тункиной архивные материалы, касающиеся обстоятельств исключения будущего ученого из ВКП(б) в 1922 году: он отказался выполнять распоряжения тихвинского и череповецкого комитетов партии о «переброске» его с научно-педагогической работы в Тихвине на административную и журналистскую в Череповец и подал заявление о выходе из ее рядов. Даже если в то время подобный шаг еще мог остаться без драматических последствий, все же на него вряд ли пошел бы человек, интересовавшийся только карьерой и лишенный преданности науке[52].
Случаи Равдоникаса и Толстова свидетельствуют о том, что обвинениям в космополитизме могли подвергаться и ортодоксальные советские марксисты. Навязанная науке «кампания» в каждой дисциплине принимала своеобразные формы в зависимости от конкретной ситуации. Очевидно, что ее столь разный исход для этих двух ученых был обусловлен во многом разницей их структурного положения: административный центр академической жизни тогда еще совсем недавно переместился в Москву, и соотношение сил двух столиц продолжало оставаться довольно неустойчивым. Однако Толстов, конечно, обладал несравненно большей институциональной властью и не имел, в отличие от Равдоникаса, амбициозных соперников. Он сыграл роль консолидатора сил этнографов, пожертвовав несколькими «космополитами», лояльность которых советскому марксизму была довольно сомнительной. Равдоникас, напротив, пытался взорвать постулируемое единство археологов-марксистов, в то же время имея, возможно, некие «антимосковские» планы и властные амбиции. Не следует забывать и о том, что главный объект его нападок, Арциховский, был его давним оппонентом еще со времен первоначальной «марксизации» дисциплины. Однако буквально через несколько месяцев после описываемых событий началась новая дискуссия — на этот раз о положении в языкознании, — в еще большей степени повлиявшая на ситуацию в рассматриваемых науках.
Марризм
Публикация 20 июня 1950 года статьи Сталина «Относительно марксизма в языкознании», характеризовавшей Марра как «вульгаризатора» и разоблачавшей «аракчеевский режим», созданный его последователями в языкознании, явилась неожиданностью не только для лингвистов. Накануне этого события археологи и этнографы, напротив, стремились подчеркнуть свою лояльность «новому учению о языке». К тому же в 1949 году отмечалось 85 лет со дня рождения и 15 лет со дня смерти Марра, чему в обоих институтах были посвящены юбилейные сессии, третьим изданием вышла весьма апологетическая биография Марра В.А. Миханковой, а также выдержанный в соответствующих тонах доклад ставшего во главе ленинградского отделения ИИМК (после ухода Равдоникаса) А.П. Окладникова «Николай Яковлевич Марр и советская археология». В археологии активное освоение учения Марра разворачивалось преимущественно в Ленинграде, где вскоре и был выявлен и локализован главный источник «культа Марра»:
В нашем институте, особенно в его Ленинградском отделении, существовал на протяжении многих лет <…> своего рода культ Н.Я. Марра, которому своевременно не был дан отпор. Проводились пленумы, посвященные памяти Н.Я. Марра, работал кабинет имени Н.Я. Марра; там хранилось его наследство и оттуда велась пропаганда его ошибочных идей[53].
Обсуждение «гениальных трудов» Сталина среди археологов, таким образом, имело свою специфику, определявшуюся, в основном, все более усугублявшимся противостоянием двух отделений ИИМК. Москвичи начали это обсуждение в секторах прямо в день публикации первой статьи, а уже 5 июля провели открытое партийное собрание с обсуждением доклада директора ИИМК историка А.Д. Удальцова, пообещавшего «на собственной работе показать пример преодоления прошлых ошибок», и успели оперативно опубликовать отчет об этих событиях в третьем номере «Вестника древней истории» за 1950 год[54]. В Ленинграде первая реакция была совсем другой. Археолог М.К. Каргер признавал:
После открытия дискуссии на страницах «Правды» собрался Ученый совет ЛОИИМК, и все члены Ученого совета выступили в защиту, поддержку Марра, выступили с восхвалениями учения Марра, потому что никому в голову не приходило усомниться в его правильности. Все так и объяснили, что это сделано нарочно, вот «Правда» сначала напечатала статью Чикобава, и всех, кто против Марра выступит, потом разнесут в прах[55].
Только в ноябре 1950 года, уже после появившихся в газетах и научной периодике сведений о Ленинградском отделении как о центре «культа Марра», там состоялось повторное обсуждение. Оно проходило, судя по стенограмме, довольно бурно. «Взорвал» ситуацию прибывший на заседание в составе небольшой делегации москвичей Б.А. Рыбаков, направивший делавшему доклад директору Окладникову записку с вопросом: «Был ли аракчеевский режим в археологии?» Этот вопрос привел докладчика в замешательство («Я попросту обалдел», — признался он. Форма этого вопроса, по его же словам, вызвала ассоциацию с обстановкой судебного дознания[56]) и вызвал ряд гневных отповедей ленинградцев. Ситуация усугублялась тем, что в опубликованном москвичами отчете об обсуждении сталинских трудов уже указывалось, что и в археологии существовали попытки насаждения «аракчеевского режима», исходившие от Ленинградского отделения, сотрудники которого считали себя хранителями марровских традиций и расценивали непризнание таковых как «самый тяжкий проступок». Именно поэтому вопрос Рыбакова был расценен как прямое обвинение[57].
Окладников защищался: указав на марристские идеи о стадиальной трансформации культур Восточной Сибири в главной работе заместителя директора московского ИИМК Киселева «Древняя история Южной Сибири», он призвал его сначала «бросить камень в себя» и не делать вид, что «он чист и невинен как новорожденное дитя от всех этих неприятных вещей». «Грехи» не распределяются по территориальному признаку, и московское руководство, без одобрения которого невозможно было принятие ни одного решения, виновато больше подотчетных ему ленинградцев. Работы по этногенезу руководились из Москвы, которая гордилась ими «не меньше, чем мы жертвенником и культом Н.Я. Марра», а теперь стремится «перекинуть» свою вину на подчиненных[58]. А.Н. Бернштам в своем выступлении привел примеры «групповщины и семейственности» среди московских археологов, не опубликовавших его критическую рецензию на книгу С.В. Киселева, а В.И. Равдоникас указал на то, что Киселев пытается провозгласить себя «непогрешимым» марксистом[59]. Автор отчета о московском заседании А.Л. Монгайт, поднявшись на трибуну, вспомнил и недавнюю кампанию Равдоникаса по определению «двух лагерей» в археологии, и все другие проявления «культа»:
Но если мы будем разбираться в путях советской науки, то скажите, Алексей Павлович, только честно скажите, что было бы шесть месяцев тому назад, если бы я с этой кафедры начал критиковать учение Марра?
Тов. Артамонов: Но ведь Вы не критиковали! (Смех.)
Тов. Монгайт: Но что было бы, если бы я критиковал? Я, товарищи, ничего смешного в этом не вижу. Я терпеливо выслушивал потоки ругательств по моему адресу и адресу московских товарищей, прошу теперь терпеливо выслушать мой ответ на это, даже если он вам покажется смешным. Все-таки вам придется его выслушать!
Я думаю, что те товарищи, которые молчали, молчали не только потому, что они колебались, но потому, что они боялись выступать, а выступление товарища Сталина, разоблачая Марра как вульгаризатора марксизма, развязало языки, и товарищи начали выступать. Это относится к вопросу личных качеств — трусости или смелости товарищей, выступавших или не выступавших, но это имеет отношение и к тому режиму, который все-таки в институте существовал[60].
Наиболее ярко выступавшие ленинградцы — А.Н. Бернштам, А.П. Окладников, В.И. Равдоникас — высказывались в том смысле, что Марр был все же большой ученый и его археологические работы сохраняют свою значимость. Окладников признавал, что личность Марра «заслоняла его идейно-теоретические пороки как ученого», а работники ИИМК знали его в первую очередь как выдающегося археолога и историка культуры. Бернштам, в частности, сказал:
Есть у Н.Я. Марра отдельные положения и выводы, которые мы можем принять, но об этом все равно можно будет сказать в печати только позднее, ибо ни одно издательство не поместит сейчас ни одного труда со ссылкой на Марра. А пока издательства придут в себя — это более долгий процесс, чем у научных работников![61]
28—30 декабря 1950 года в Москве состоялось еще одно заседание, на котором были подведены итоги обсуждения сталинских работ. На нем были зачитаны доклады С.В. Киселева, Б.А. Рыбакова и П.Н. Третьякова о перспективах археологии в связи с новыми теоретическими установками, однако едва ли не основное внимание было направлено на поведение ленинградцев. Оно было подвергнуто резкому осуждению. В принятой в Москве резолюции говорилось, что Окладников вместо серьезной самокритики и критики своих подчиненных «фактически взял под свою защиту Марра как археолога»; помимо этого на ленинградском заседании якобы последовали некритические по отношению к Марру и игнорирующие работы Сталина выступления сотрудников, в частности были упомянуты и ставшие одиозными слова Бернштама о поиске «положительных сторон наследия Марра». Вопрос об «аракчеевском режиме» был решен также не в пользу ленинградцев. Точка зрения Каргера и некоторых других сотрудников ЛОИИМК, согласно которой этот режим существовал в ГАИМК в середине 1930-х годов из-за деятельности расстрелянных «врагов народа», не была принята. Марр был объявлен не только автором «порочной» теории, но и плохим археологом; всячески подчеркивался «культ Марра, который искусственно насаждался в Ленинградском отделении Института». Было решено устранить автономию ленинградцев и обеспечить централизацию руководства[62]. Таким образом, москвичи, по воспоминаниям Б.Б. Пиотровского, использовали критику Марра, чтобы полностью «подчинить» ленинградских археологов, и в печати впоследствии звучали главным образом имена Артамонова, Бернштама, Равдоникаса и самого Пиотровского[63].
Окладников был вынужден признать свой доклад неудачным и в патетическом тоне раскаиваться в том, что испытывал «растлевающее влияние порочных концепций Н.Я. Марра». В то же время на возникший вопрос о степени лицемерия ученых, которые могли использовать марризм для продвижения карьеры, он ответил изложением довольно распространенной в это время (и наиболее громко озвученной С.П. Толстовым) версии причин увлечения археологов его поколения «новым учением о языке», рисовавшей их жертвами агитации марристов:
…мы, росшие под прямым влиянием Марра, в момент наиболее крикли
вой агитации за Марра его учеников и последователей, по относитель
ной нашей молодости оказались самыми подходящими жертвами.
Нам хотелось мыслить исторически. Мы ненавидели всякую мысль о
вещеведении ради вещеведения, потому что молодым, живым советским
исследователям по самой их природе противно быть гробокопателями
только из одного желания копать гробы. <…> И когда Марр выступал и
говорил: «Взломаем эти мертвые рамки нашей науки, пойдем вперед по
пути марксизма», — это вполне соответствовало нашим представлениям
о том, куда должна идти наука. Так случилось и с С.В. Киселевым. Он
тоже впал в марристское грехопадение <…> Мы верили, что Марр был
марксист, верили ему честно и искренне[64].
В целом обсуждение работ Сталина закончилось на мажорной ноте: несмотря на «крикливую пропаганду» марристов, археология все же в целом развивалась по марксистско-ленинскому пути, «в основном правильно осветив древнейшие периоды истории нашей Родины»[65]. Критика марризма продолжилась подготовкой сборника «Против вульгаризации марксизма в археологии» и отдельными проработками наиболее упорных приверженцев «нового учения». Окладников был снят с поста руководителя ЛОИИМК, Ученый совет ЛОИИМК был расформирован и возобновил работу только в 1955 году. Очевидно, это было связано и с общим процессом ликвидации влияния прежних академических центров во «второй столице» — так, в начале 1950-х годов за идеологические прегрешения было закрыто и Ленинградское отделение академического Института истории[66].
В предисловии к упомянутому сборнику утверждалось, что «аракчеевский режим» распространялся также и на археологию, критика «нового учения» преследовалась, а люди, позволявшие себе подобное, «снимались с постов или снижались по должности»[67]. Пиотровский, напротив, вспоминал об опасности партийных взысканий, которой он, Артамонов и Бернштам подверглись в 1952 году за неприятие «индоевропеизма и индогерманизма», что якобы противоречило отныне главному авторитету в области языкознания — Сталину. Впрочем, по его словам, после того как в конце 1952 года его назначили заведующим ЛОИИМК, «…все страсти успокоились. О “марризме” никто уже не говорил, имя Н.Я. Марра сняли с вывески Института, кабинет Марра закрыли и материалы передали в архив Академии наук, библиотеку его завязали в стопки и сложили в коридоре Института»[68]. Артамонова и Бернштама в 1952 году ждали серьезные «проработки» и обсуждения в ЛГУ и ИИМК (в случае Артамонова — после публикаций в «Правде»). Обвинялись они в схожих «ошибках»: Артамонов якобы преувеличил роль хазар в истории Руси, а Бернштам — «идеализировал» гуннов и Аттилу; в ходе этих кампаний и того и другого укоряли в недостатке самокритики и недостаточном преодолении марристских взглядов. В 1950 году Пиотровский рассказывал такой трагикомический случай:
За мной установилась слава яфетидолога в археологии. Нынче летом был такой случай в Ереване. Пришел один посетитель, гость, не ереванец, и спросил — кто ведет раскопки, ему отвечают — Пиотровский. Он говорит: «Быть не может! Пиотровский же во время дискуссии получил удар, и теперь он вообще не работает!» Его убеждали, что Пиотровский через два часа придет, но он долго сомневался и говорил, что у него достоверные сведения, что после выступления товарища Сталина, во время языковедной дискуссии с Пиотровским случился удар[69].
Если в отношении будущего директора Эрмитажа все обошлось благополучно, то для Толстова связанные с критикой марризма события действительно закончились в 1951 году обширным инсультом. Бытующая среди этнографов легенда связывает этот факт с непосредственным участием ученого в дискуссии о языкознании в «Правде»: отправив в редакцию газеты статью в поддержку Марра, он все же смог получить ее обратно сразу же после сталинской публикации. В дальнейшем он активно участвовал в соответствующих дебатах, однако пережитое нервное напряжение заметно сказалось на его здоровье. Историю со статьей для «Правды» можно было бы счесть апокрифом, если бы не сам этот текст, озаглавленный «За передовое советское языкознание», обнаруженный мною в его архивном фонде. На его последней странице стоит обратный адрес, телефоны автора и дата: 19 июня 1950 года — за день до выхода в свет статьи Сталина! Филолог С.Б. Бернштейн, очень плохо относившийся как к Марру, так и к Толстову и прекрасно знавший ситуацию изнутри языковедческого цеха, 1 июня писал в дневнике-мемуарах, что, несмотря на то что «для всех очевидно, что марризму приходит конец», Толстов «обещает Чикобаве Голгофу». 23 июня следует запись: «Многие марристы находятся в состоянии шока. <…> Сергей Павлович Толстов совсем почернел»[70]. Профессор В.В. Пименов вспоминает лекцию Толстова по общей этнографии для первокурсников в день опубликования статьи Чикобавы. К середине лекции кафедра была уже завалена записками с вопросами о его отношении к статье, и профессор посвятил ответу на этот вопрос около часа, в течение которого он критиковал Чикобаву и убедил всех студентов в правильности теорий Марра. Однако на следующую лекцию он не пришел, и курс дочитывал другой преподаватель. Более того, оказалось, что это его последнее выступление: в следующем учебном году он оставил чтение лекций, а вскоре — и заведование кафедрой этнографии МГУ[71].
Уже 4 июля «Правда» опубликовала совсем другую, гораздо более краткую статью Толстова — естественно, приветствующую «пример творческого марксизма» (так звучало ее название), который дал всем читателям и ученым в особенности Сталин. В ней он («нечего греха таить») раскаивался в симпатиях к «порочной» теории Марра, однако защищал находившиеся под ее влиянием этногенетические исследования: «В нашей конкретноисторической работе мы исходили из исторических, археологических, этнографических и антропологических фактов, опираясь при освещении их на методологию марксизма-ленинизма, на сталинскую теорию нации»[72]. Очевидно, что неожиданное «прозрение» Толстова было вынужденным: лидер советских этнографов не мог позволить себе противоречить «корифею науки»[73].
Однако Толстов все же повел себя несколько «диссидентским» образом и даже после сталинского выступления продолжил борьбу за собственное видение проблемы. 27 июля 1950 года он выступил на заседании Ученого совета Института этнографии с докладом «Значение трудов И.В. Сталина по вопросам языкознания для развития советской этнографии». В нем ученый признавал, что он, «как и большинство занимавшихся этими вопросами (проблемами происхождения народов. — С.А.) историков, археологов, этнографов и антропологов, сочувственно относился к теории акад. Марра», однако на этом его личная «самокритика» заканчивалась[74]. В дальнейшем изложении Толстов озвучил нередко встречавшуюся среди археологов позицию, согласно которой сталинская реабилитация сравнительно-исторического метода в языкознании отнюдь не означает возврата к «праязыковой теории», за который выступили лингвисты («Марр[у] по шапке, и думаете, что все будет по-старому?» — образно выразил эту позицию влиятельный археолог, специалист по восточным славянам П.Н. Третьяков в разговоре с одним пожилым коллегой[75]).
Сопоставление злополучной неопубликованной статьи и доклада, сделанного Толстовым месяц спустя, показывает, что в последнем он сохранил большую часть аргументации, страницами цитируя свой «промарровский» текст в «антимарровском» выступлении. Основной тезис статьи был таков:
Как общие взгляды Марра на процесс этногенеза и глоттогенеза, так и частные его высказывания по этногенезу отдельных народов явились важным вкладом в разработку историками, археологами, этнографами и антропологами этногенетических проблем. <…> Теория Марра о развитии языков «от множества к единству», о роли смешения («скрещения») древних племенных языков в формировании языков современных — оказали плодотворное влияние на развитие исторических исследований по вопросам этногенеза. <…> Советские историки в своей исследовательской работе оказались не в состоянии использовать обобщения лингвистов-компаративистов, так как они неизбежно вели к антиисторическим, расистским выводам. Работы Марра по вопросам этногенеза выдержали проверку в свете исторических фактов. Перекрестная проверка данными истории, археологии, этнографии, антропологии показала, что в вопросах этногенеза факты говорят за Марра, против компаративистов[76].
А. Чикобава отрицал какую-либо связь индоевропейского языкознания с расизмом, Толстов же настаивал на ее реальности. Он напоминал, что «арийскую расу» изобрели именно филологи (Макс Мюллер), и логические выводы из «генеалогической классификации языков» неизбежно ведут к расизму вне зависимости от взглядов самих ее авторов. Дальнейший текст содержался и в опубликованном докладе, и в статье и был посвящен идее «праязыка» и «прародины» индоевропейцев. Толстов приводил колоссальный список гипотез относительно локализации последней, иронически отмечая, что практически не осталось ни одной страны, где бы ее не искали. Однако основная проблема даже не в этом, а в том, как «на протяжении четырех с лишним тысяч лет одна лингвистическая общность, один народ или группа родственных племен, живших в пределах небольшой территории, идет по пути непрерывного, “необычайного” даже для авторов такого рода схем, расширения своей колонизационной области», причем колонизация эта идет не на пустом месте и неиндоевропейцы всегда оказываются ассимилированными «жертвами». Что может выступать в качестве объяснения такой «магической силы» самих индоевропейцев? Интересно, что в опубликованном докладе Толстов оставляет этот вопрос без ответа, в статье же продолжает:
Единственно название для этой силы — раса. <…> Расизм вовсе не обязательно связан с формой носа или цветом волос… Расизм — это идея об «избранности», особой, отприродной, действующей независимо от истории и подчиняющей себе историю, одаренности отдельных народов или групп народов. <…> Создание генеалогического древа неотделимо от идеи «избранной расы», ибо не может найти объяснение в условиях первобытно-общинного строя неограниченное и непрерывное распространение одного народа на территории, занятой другими народами, если не принять гипотезу о его отприродных высших качествах[77].
Далее Толстов излагал факты, легшие в основу выдвинутой им месяц спустя «гипотезы лингвистической непрерывности». Эта гипотеза была основана на этнографических материалах, которые свидетельствовали о чрезвычайной множественности языков на территориях, до открытия европейцами заселенных народами, живущими первобытно-общинном строем: около пятисот языков в Австралии, около ста в Новой Гвинее. Языки соседних локальных групп допускают взаимопонимание, и разница между ними увеличивается по мере увеличения расстояния. Образование языковых семей было связано с появлением племен и союзов племен: «Языков становится меньше, но различаются они между собой больше, чем на предшествующей стадии»[78]. Толстов опирался и на «теорию контакта» выдающегося лингвиста Д.В. Бубриха, также считавшего языковое родство результатом не распадения единого языка-основы, а сближения благодаря длительному сосуществованию.
Толстов не был слепым приверженцем всего, что предлагали Марр и его последователи. Неудовлетворительное состояние лингвистики, по его мнению, происходило не от господства «марризма»: элементным анализом после Марра практически никто не занимался, в любом вузовском пособии сравнительно-исторический метод и генеалогическая классификация языков излагаются гораздо подробнее, чем «новое учение о языке». Проблема, по Толстову, состояла в том, что последователи Марра (имелся в виду прежде всего И.И. Мещанинов) прервали связи с историей, археологией и этнографией и занимались сравнительным анализом синтаксиса, усугубляя ошибку своего учителя, связавшего морфологическую классификацию языков (деление их на аморфные, агглютинативные и флективные) со стадиями развития языка. Место стадиальной и генеалогической классификации языков должна занять историческая или историко-этнографическая. Надо отказаться от понятий языковой семьи или системы, практически их не существует: современный «индоевропейский» таджикский гораздо ближе к «уралоалтайскому» узбекскому, чем, к примеру, английскому. «Тонкий слой словарных параллелей и звуковых соответствий» индоевропейских языков возник не благодаря распадению языка-основы, а является «итогом эпохи сближения и взаимовлияния различных языков Европы и Западной Азии конца III — начала I тысячелетий до н.э. в результате развития скотоводческого хозяйства»[79]. В лекциях по общей этнографии для студентов МГУ Толстов использовал, однако, понятия индоевропейской, уральской или алтайской «систем» и объяснял вклад Марра следующим образом. Марр доказал наличие яфетических племен на огромной территории, впоследствии занятой индоевропейцами, в которых они, за исключением носителей реликтовых языков, вроде баскского, и трансформировались. Для территории Южной Азии такую же роль играли австро-азийские языки, вытесненные или трансформировавшиеся в сино-тибетские, дравидийские и индонезийские. Таковыми же являются северные палеоазиатские языки. «Категории, выработанные сравнительной грамматикой, деление индоевропейских языков на славянские, романские и германские и т.д. сохраняется, но истолкование происхождения и истории этих языков в современной советской лингвистике и лингвистике буржуазной в прошлом и в настоящем совершенно различно», — резюмировал Толстов[80].
Однако все эти идеи были встречены лингвистами резко отрицательно, и от дальнейшей разработки их Толстову пришлось отказаться. 29 октября — 3 ноября 1951 года в Москве прошло масштабное Совещание по методологии этногенетических исследований в свете сталинского учения о нации и языке, в котором приняли участие представители институтов языкознания, этнографии, истории и истории материальной культуры. Оно отразило довольно напряженные отношения, сложившиеся между языковедами и представителями остальных наук. Для понимания его причин достаточно сравнить приведенные выше высказывания Толстова о том, что основные этногенетические выводы остаются в силе, с оценкой такого рода работ, которая была дана при открытии совещания языковедом академиком В.В. Виноградовым:
В условиях «аракчеевского режима» проблемы происхождения и развития народов, определения исторических корней их национального сознания, главнейшим выразителем которого является язык, оставались монополией касты руководителей-марристов. В итоге научная ценность этногенетических исследований, которые велись до прошлогодней лингвистической дискуссии в газете «Правда», очень не велика. Из них может быть с пользою извлечена некоторая часть собранного или открытого материала. Однако, вся методика исследований должна быть коренным образом пересмотрена[81].
Можно сравнить этот резкий приговор с признаниями, которые вынужден был делать А.Д. Удальцов в следующем докладе, посвященном роли археологии в этногенетических исследованиях:
Ранее советские археологи, как правило, считали, что на археологическом материале можно решать, якобы, все основные проблемы этногенеза, — и вопросы развития экономики, и вопросы развития духовной культуры и языка, лишь отражающего якобы в качестве надстройки развитие того или иного базиса. Такая самонадеянность получила заслуженный удар[82].
Удар пришелся и по «самонадеянности» Толстова, который взялся учить лингвистов. Освободившись от марризма, они не хотели терпеть компромиссов со всеми теориями, так или иначе отрицающими представление о «языке-основе», к которому генетически восходят родственные языки (Толстов тут парадоксальным образом соседствовал в качестве объекта критики не только с Д.В. Бубрихом, но и с основателем структурализма Н.С. Трубецким)[83]. Теория лингвистической непрерывности была признана возрождающей марровское представление о скрещении языков, в результате которого — по Марру — рождается новый язык, а по Сталину — один выходит «победителем», а другой побежденным. Приговор лингвистов был недвусмысленным: те, кто считает, что результат скрещений в доклассовом обществе может быть не таким, как изобразил Сталин, отражают точку зрения марристов и «жестоко ошибаются»[84]. Толстов, по всей видимости, тяжело переносил это поражение. Впрочем, это мало сказалось на успешности его дальнейшей карьеры, в которой пришло время пожинать плоды прошлых трудов. Биографы ученого перечисляют полученные им регалии, включавшие звание члена-корреспондента АН СССР, АН ГДР, почетного члена Азиатского общества в Париже, Парижского антропологического общества, Королевского антропологического института Великобритании и Ирландии и т.д.[85] Научная продуктивность Толстова в 1950-е годы была по-прежнему высока, однако он сосредоточился на более узких проблемах археологии Хорезма и Средней Азии. Позиция директора института сказалась на ходе «антимарристской» кампании среди этнографов: несмотря на принятое под давлением со стороны Отдела науки ЦК и Отделения исторических наук АН решение о подготовке сборника «Против извращений марксизма в этнографии», он так и не вышел — в отличие от аналогичных коллективных трудов, подготовленных языковедами и археологами[86]. Единственная появившаяся в результате этого решения статья — «Против антимарксистких извращений в изучении одежды» — получилась настолько карикатурной, что этнографы опять получили отповедь со страниц «Правды» в публикации «Вульгаризаторы в позе марксистов»[87]. В 1965 году, после нового тяжелого инсульта, Толстов окончательно отошел от дел в институте, будучи к тому времени совершенно больным человеком. Ученый скончался в 1976 году, прожив последние двенадцать лет в состоянии полной нетрудоспособности.
В 1950 году застигнутые врасплох археологи выдвигали немало упреков и оправданий своего «марристского грехопадения». Некоторые, как Толстов, довольно непоследовательно ссылались на «трескучую пропаганду» марристов, другие указывали на весомую роль Марра в истории советской археологической науки, третьи ссылались на то, что «верили» в марксизм автора яфетической теории, четвертые довольно цинично утверждали, что лишь «прикрывались» цитатами из Марра в угоду конъюнктуре. Лишь немногие попытались дать серьезный анализ ситуации, найти глубокие идеологические и научные причины этого факта. Современные историки указывают множество факторов распространенности марровских теорий: здесь и критика Марром расизма и колониализма, и использование им «классовой» парадигмы и стадиальности для объяснения развития языка и культуры, обращенность Марра и его учеников к автохтонному развитию в противовес миграционизму, что соответствовало критике пангерманских построений немецких археологов и так далее. Так или иначе, нет сомнения в том, что «комплексные» историко-археолого-этнографические исследования этногенеза в 1930—1940-е годы действительно опирались на «новое учение о языке». Этому были как общеидеологические, так и более узконаучные причины, на которых следует остановиться, чтобы понять логику поведения археологов в описанных выше событиях.
Общеидеологические причины были изложены, к примеру, в докладе П.Н. Третьякова «Значение трудов И.В. Сталина для проблемы этногенеза народов СССР». В этом докладе, прочитанном в ИИМК 28 декабря 1949 года на торжественном заседании, посвященном семидесятилетию вождя, появляется еще только одно имя — академика Марра — как ученого, построившего свою теорию исходя именно из сталинского учения о нации. Главный тезис этого учения гласил, что «нация — явление историческое, нации складываются на определенной ступени общественной истории и складываются из представителей самых различных рас и племен» («итальянская нация образовалась из римлян, германцев, этрусков, греков, арабов и т.д. Французская нация сложилась из галлов, римлян, бриттов, германцев и т.д.»), что является главным опровержением расистских теорий «извечности и неизменности расово-этнических качеств». В работе же «Национальный вопрос и ленинизм» Сталин дал «величественную картину будущего» наций после поражения мирового империализма. Третьяков подытоживал:
Во-первых, картина донационального состояния: разрозненные племена и народы, складывающиеся изредка в незначительные этнические массивы, представляющие собой потенцию в смысле образования наций в будущем, при известных благоприятных условиях, — как говорит И.В. Сталин.
Далее — буржуазные нации, внутренне относительно непрочные; их сменяют монолитные нации социалистические. Из этих монолитных, прочных наций в условиях, когда ликвидирована межнациональная рознь, когда складывается межнациональная экономика и крепнет дружба между нациями, — в этих условиях постепенно создаются последние национально-этнические формы, завершающиеся созданием единой культуры, единого языка во всем мире.
Вот она — та самая пирамида этнического и языкового развития, о которой говорил Н.Я. Марр, пирамида с широчайшим, множественным пестрым основанием, с суживающимися гранями и с единой вершиной. <…> Прежде всего и главным образом Марр исходил из работ и выступлений Сталина, посвященных национальному вопросу[88].
После дискуссии Третьяков, конечно, признал, что восприятие марровских положений как соответствующих трудам Сталина и Ленина было ошибочным, однако в логике процитированному выше построению марровской «пирамиды» отказать нельзя. Тем более, что такая логика диктовалась и более узкоспециальной проблематикой археологических изысканий в области этногенеза. Здесь основной ошибкой марристов было, как известно, представление о стадиальном «перевоплощении» одних народов в другие, инспирированное марровским причислением языка к революционно сменяющимся общественным надстройкам и отождествлением языка и этноса. В результате к предкам славян причислялись «скифы, фракийцы, венеды, лугии, иллирийцы, кельты», а собственно славяне появлялись, согласно Третьякову-марристу, в результате «стадиального взрыва», превратившего в славян все перечисленные племена[89]. Главной ошибкой было, с его же точки зрения, признание их всех «равноправными» предками, в то время как древних славян надо искать гораздо глубже в прошлом, а остальные племена были ими ассимилированы и играли в славянском этногенезе «второстепенную или третьестепенную роль»[90].
Однако на «марристскую» интерпретацию наталкивал археологов их материал. К примеру, Артамонов в докладе, подытожившем проделанные в ИИМК исследования по вопросу происхождения славян, указывал, что принятая в историографии теория их «прародины» (к примеру, карпатской, по которой славяне отождествляются с венедами) не может объяснить факт появления славян на обширной восточнославянской территории, так как археологически никакие массовые переселения на этой территории в первые века нашей эры не зафиксированы. Более того, материалы верховий Оки и Волги, на основе которых Третьяков издал в 1948 году сводную монографию «Восточнославянские племена», демонстрируют «непрерывное развитие культуры от древнейших времен до эпохи русского государства, до времени бесспорного славянства населения этой территории»[91]. Если нет никаких следов смены культуры и населения, то появление на данной территории славянства можно объяснить не миграцией, а только стадиальной трансформацией местного населения. Именно это имел в виду Артамонов, предпринявший во время обсуждений работ Сталина одну из немногочисленных попыток серьезного осмысления корней явления, когда говорил, что ошибки археологов «являются результатом попыток объяснения определенных положений в археологической науке при помощи теории Марра и тех заключений, к которым пришел Марр»[92]. Эту разницу подходов к этногенетической проблематике языковедов и археологов зафиксировал также В.В. Виноградов:
Лингвисты считают, что прослеживаемая археологами преемственность
в развитии материальной культуры на какой-либо территории не может
служить решающим доказательством существования непрерывной языковой традиции на той же территории.
Археологи же иногда допускают, что непрерывность развития матери
альной культуры на данной территории может говорить о непрерывно
сти языкового развития. Так, например, ставится вопрос о связи т.н.
«[культуры] полей погребальных урн» именно со славянами[93].
Примерно та же — вполне возможно, «вечная» — проблема вставала перед советскими археологами, пытавшимися разрешить вопрос о происхождении индоевропейцев. Этот вопрос был центральным для самого Марра, считавшего рождением «нового учения о языке» свой доклад «Индоевропейские языки Средиземноморья» (где он утверждал, что «расово отличной» индоевропейской языковой семьи никогда не существовало) и посвятившего затем критике «индоевропеизма» б?льшую часть своих работ. 1946 год стал временем появления сразу трех гипотез происхождения индоевропейцев, выдвинутых М.И. Артамоновым, С.П. Толстовым и А.Д. Удальцовым. Интересно, что для археологов это была своеобразная попытка привлечь внимание к тогдашнему «замалчиванию» Марра. «К Марру-лингвисту, — писал Артамонов, — в настоящее время принято относиться критически или даже вовсе обходить его молчанием, что тоже является формой критики, но критики особого рода»[94]. Артамонов, как и Толстов, указывал на тупик, в который зашла западная археология, опирающаяся на миграционизм, и стремился показать, что связываемые с индоевропейцами археологические культуры являются плодами автохтонного развития; соответственно, и вопрос о происхождении индоевропейцев мог быть решен, с его точки зрения, только на базе «нового учения о языке». Таким образом, очевидно, что процесс «расставания с Марром» для археологов был столь болезненным потому, что он не ограничивался снятием его фамилии с вывески института (с 1950 года ИИМК, естественно, перестал быть «имени Марра»), а подразумевал серьезный и болезненный пересмотр казавшихся недавно незыблемыми основ научного мировоззрения. А.Б. Кожевников иронично назвал дискуссию о языкознании «сменой парадигм по-советски» — определение, наиболее подходящее, пожалуй, именно к археологии и всей области «этногенетики». В отличие от завершения биологической «дискуссии» на печально известной августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 года, здесь, напротив, восторжествовал некий отдаленный аналог «вейсманизма-морганизма», отрицавший резкие стадиальные трансформации и позволявший уводить — к удовлетворению всевозможных националистов — «основных» предков современных народов гораздо глубже в праисторию, чем поверженный марризм. Олицетворением этой тенденции в будущем стал столь активно проявивший себя в 1950 году академик Б.А. Рыбаков.
* * *
Подведем некоторые итоги или, по крайней мере, наметим направления для дальнейших размышлений. Рубеж 1940—1950-х годов традиционно и справедливо считается мрачным временем разгула идеологических обвинений, которым подвергались наиболее независимо мыслящие советские ученые. Однако, как показывает рассмотренный материал, таковые были не только среди «попутчиков» советского марксизма или неявных пока еретиков, но и в самом истеблишменте советской науки. Случай Равдоникаса показывает, что ортодоксальность — особенно во времена значительных идеологических сдвигов, каковым являлся рассматриваемый период, — была оружием обоюдоострым, случай же Толстова (и многих других) демонстрирует, что следование официальной доктрине отнюдь не противоречило наличию глубоко фундированных и по-своему последовательных научных убеждений. Симптоматично, что Толстов и Равдоникас — характерные представители поколения сталинских руководителей в советской науке — покинули ее гораздо раньше физической смерти (последовавшей в один год — 1976-й), что, по-видимому, свидетельствует о колоссальных перегрузках и напряжении, которые приходилось выносить многим представителям тогдашней элиты[95]. Одна примечательная деталь — потомок офицерского рода, племянник белоказачьего генерала, раненный в ополчении под Москвой осенью 1941 года, несомненно талантливый, очень работоспособный археолог и авторитарный руководитель — Толстов в последние годы, когда он уже тяжело болел, особенно часто, по воспоминаниям родных, просил перечитывать ему вслух «Трудно быть богом» Стругацких[96].
Логика рассмотренных событий показывает, что, несмотря на постоянное повторение сталинских слов о роли дискуссий и борьбы мнений в науке, основной ценностью, которой придерживались ученые, был некий консенсус, вырабатывавшийся в ходе различных заседаний и совещаний; он должен был выражать консолидированное мнение сообщества — в данном случае археологов или этнографов. Принципиальное несогласие с этим регулируемым «сверху» консенсусом, к примеру приверженность марризму после 1950 года, было, конечно, недопустимым, однако достигался он порой в результате довольно длительного и трудного процесса. В то же время нет никакой необходимости следовать за официальными лицами советской науки в представлении о том, что, к примеру, «советская школа в этнографии» представляла собой монолитное единство или что все археологи до 1950 года исповедовали марризм, а потом в одночасье от него отмежевались. Рассмотренные дискуссии показывают наличие всего спектра мнений, которые, однако, из-за утопического стремления советской культуры к единомыслию не имели равных шансов на проявление и развитие. Многие действия ученых в ходе данных дискуссий были также вызваны чувством коллективного самосохранения профессиональных сообществ этнографов и археологов, лидеры которых достигли наконец, как и представители других наук, к концу 1940-х годов положения (воспользуемся термином Ф. Рингера) советских «мандаринов» и не испытывали никакого желания с ним расстаться[97]. Об этом свидетельствует поведение археологов, отчаянно сопротивлявшихся выявлению равдоникасовских «двух направлений», из тех же побуждений, как представляется, действовал и Толстов, внедряя изучение современности в советскую этнографию.
В то же время стоит задуматься о сложной системе легитимации, к которой прибегали советские ученые, частью чего обычно было цитирование сочинений классиков марксизма и партийных вождей. На собрании в 1950 году коллега Толстова по МГУ А.В. Арциховский прокомментировал его выступление с изложением гипотезы первобытной лингвистической непрерывности следующими словами:
Я никогда не признавал Марра. В моих работах нет ни одной ссылки на него. Я никогда не упоминал даже имени Марра. Поэтому вы должны поверить тому, что я сейчас скажу. Сергей Павлович порой цитировал Марра на каждом шагу. Но Марр настолько противоречив, что у него можно найти цитаты на все случаи жизни. Толстов создавал Марра по своему образу и подобию. И вот теперь мы видим мысли Сергея Павловича без всяких подпорок. Забудем о Марре, которым тут и не пахнет и никогда не пахло, и поговорим о гипотезе Толстова[98].
Подобное дезавуирование помогало избавиться от небезопасных ссылок на низложенный авторитет, хотя в свете вышесказанного очевидно, действительно ли в гипотезе Толстова «не пахло» Марром. Цитаты из классиков марксизма, включая величайшего «корифея наук», также играли значительную легитимирующую роль. К примеру, этнографы часто повторяли сказанные в 1948 году Сталиным на приеме делегации правительства Финляндии слова о том, что каждая нация «имеет свои качественные особенности, свою специфику». Ю. Слезкин склонен изображать дело так, что именно после этих слов этнографы пришли к пониманию этничности как главного объекта их науки и стали изучать современность[99]. Однако можно привести слова П.И. Кушнера, сказанные им еще в 1946 году на упоминавшемся выше заседании по обсуждению постановлений ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград», что «этнография изучает этнические особенности национальных культур» и «должна изучать прошлое, но лишь постольку, поскольку оно объясняет современность»[100]. Изучение этнографами этничности было стимулировано, среди прочего, еще проектом времен Великой Отечественной войны по изучению этнического состава Центральной и Юго-Восточной Европы[101]. Нет никакого сомнения в том, что идеологические и политические факторы оказывали колоссальное влияние на формирование предмета и стиля исследований советских этнографов и археологов, однако рассмотренные материалы свидетельствуют, о том, что было бы упрощением сводить развитие советской науки той эпохи к игре в цитаты и экзегезе высказываний вождей.
Наука, будучи частью идеологии (в широком смысле), развивалась не столько в сугубой зависимости от нее, сколько параллельно, в связке с ней, впитывая также различные черты культуры своего времени. О. Хархордин остроумно проанализировал связь большевистских «чисток» и кампаний по «критике и самокритике» с дискурсом православия и практиками церковного суда и исповеди[102]. Материалы заседаний ученых наводят на схожие размышления. Марризм и космополитизм зачастую характеризуются в них в терминах либо «болезней» и «извращений», либо «грехов» и «пороков». Семантические поля этих понятий подразумевают, что рассматриваемые явления относятся к сфере либо медицинско-сексуальной, либо морально-духовной (или даже религиозной), что в любом случае с трудом предполагает их рациональное обсуждение или переосмысление. Были ли эти характеристики предопределены некими глубинными пластами российской культуры или навеяны известной ждановской характеристикой лирической героини поэзии Ахматовой как «то ли монахини, то ли блудницы», остается только гадать. В любом случае социально-инструментальная (да и попросту карьерная) прагматика и идеологическая риторика в советской гуманитаристике (апогеем тут были как раз дискуссии рассматриваемого времени) деформировали собственно методологическое содержание науки[103], хотя, конечно, не подменили его целиком. Попытка соотнести эти пласты и уровни рефлексии, предпринятая в данной статье, будем надеяться, позволит приблизиться к созданию более полной и объективной истории советской науки.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант № 07-01-00298а).
[1] Из последних работ на эту тему укажем: Вдовин А.И. Борьба с космополитизмом в контексте идеологических кампаний и дискуссий 1945—1949 гг. / Ключевские чтения — 2007. Русский исторический процесс глазами современных исследователей. М., 2007. С. 69—94; Костырченко Г.В. Сталин против «космополитов». Власть и еврейская интеллигенция в СССР. М., 2009. С. 116—136.
[2] Кожевников А.Б. Игры сталинской демократии и идеологические дискуссии в советской науке: 1947—1952 гг. // Вопросы истории естествознания и техники. 1997. № 4. С. 26—58.
[3] Формозов А.А. Русские археологи в период тоталитаризма. М., 2004. С. 55. «Официально»-советская интерпретация представлена в кн.: Генинг В.Ф. Очерки по истории советской археологии. Киев. 1982. С. 57—142. См. также: Свешникова О.С. Историческая интерпретация археологического источника в отечественной археологии (конец 1920-х — середина 1950-х гг.) Автореферат дис. … канд. ист. наук. Омск, 2006. Об аналогичной ситуации в этнографии см.: Соловей Т.Д. «Коренной перелом» в отечественной этнографии (дискуссия о предмете этнологической науки: конец 1920-х — начало 1930-х годов) // Этнографическое обозрение. 2001. № 3. С. 101—121; Она же. От «буржуазной» этнологии к «советской» этнографии. М., 1998; Она же. Власть и наука в России. М., 2004; Токарев С.А. Ранние этапы развития советской этнографической науки (1917 — середина 1930-х гг.) // Труды ИЭ. Новая серия. Т. 95. М., 1971. С. 111—120.
[4] См. об этом: Решетов А.М. Трагедия личности: Николай Михайлович Маторин // Репрессированные этнографы. М., 2003. Вып. 2. С. 161—162.
[5] Цит. по: Алымов С. П.И. Кушнер и развитие советской этнографии в 1920— 1950-е годы. М., 2006. С. 129—130.
[6] См. об этом: Brandenberger D. National Bolshevism. Stalinist Mass Culture and the Formation of Modern Russian National Identity. Cambridge, 2002. P. 27—112.
[7] Об этом совещании см.: Юсова Н. Первое совещание по вопросам этногенеза и создание специальной комиссии по проблематике происхождения народов в контексте актуализации этногенетических исследований в СССР (конец 1930-х гг.) // Проблемы славяноведения. Вып. 9. Брянск, 2007. С. 95—113. См. также: Шнирельман В.А. Злоключения одной науки: этногенетические исследования и сталинская национальная политика // Этнографическое обозрение. 1993. № 3; Юсова Н. «Давньоруська народнiсть»: зародження i становлення концепцii в радянськiй историчнiй науцi (1930-тi — перша половина 1940-х рр.). Киiв, 2006.
[8] Сжатую историю марризма и его взаимоотношений с советским этногенезом см.: Слезкин Ю. Н.Я. Марр и национальные корни советской этногенетики // НЛО. 1999. № 36. С. 48—82.
[9] Алпатов В.М. История одного мифа: Марр и марризм. М., 2004. С. 58.
[10] АРАН. Ф. 142. Оп. 1. Д. 209. Л. 35.
[11] СПФ АРАН. Ф. 1049. Оп. 2. Д. 62. Л. 143—144.
[12] Толстов С.П. Этнография и современность // Советская этнография. 1946. № 1. С. 8.
[13] АРАН. Ф. 142. Оп. 1. Д. 69. Л. 4.
[14] Там же. Л. 31.
[15] Там же. 167. Л. 31.
[16] Там же. Л. 62.
[17] Там же. Д. 169. Л. 91.
[18] Слезкин Ю. Арктические зеркала. Россия и малые народы Севера. М., 2008. С. 346—363.
[19] АРАН. Ф. 142. Оп. 1. Д. 212. Л. 80—81.
[20] Там же. Д. 169. Л. 104.
[21] Соколова В.К. Дискуссии по вопросам фольклористики на заседаниях сектора фольклора Института этнографии // Советская этнография. 1948. № 3. С. 141.
[22] Чичеров В. Обсуждение на заседаниях Ученого совета Института этнографии основных недостатков и задач работы советских фольклористов // Там же. С. 153.
[23] Соколова В.К. Дискуссии по вопросам фольклористики на заседаниях сектора фольклористики Института этнографии С. 140.
[24] Подробное изложение дискуссий вокруг «Исторических корней волшебной сказки» см.: Уорнер Э.Э. В.Я. Пропп и русская фольклористика. СПб., 2005. С. 60—81.
[25] Решетов А.М. Дмитрий Константинович Зеленин: классик русской этнографии // Выдающиеся отечественные этнологи и антропологи ХХ века. М., 2004. С. 159—162; Алымов С.С. На пути к «Древней истории народов СССР»: малоизвестные страницы научной биографии С.П. Толстова // Этнографическое обозрение. 2007. № 5. С. 133—135.
[26] Наиболее полно такого рода критику, а также список космополитических «ошибок» других этнографов см.: Потехин И.И. Задачи борьбы с космополитизмом в этнографии // Советская этнография. 1949. № 2. С. 7—26.
[27] Чичеров В. Обсуждение на заседаниях Ученого совета Института этнографии основных недостатков и задач работы советских фольклористов С. 148.
[28] См.: Сорокина С.П. Судьба ученого как отражение истории науки (конец 1940-х — начало 1950-х гг. в биографии московского фольклориста П.Г. Богатырева) // Москва и «московский текст» в русской литературе и фольклоре. М., 2004. С. 61—71. О теории в творчестве Богатырева см.: Гусев В.Е. Методологические основы научной деятельности П.Г. Богатырева // Петр Григорьевич Богатырев. Воспоминания. Документы. Статьи. СПб., 2002. С. 63—72.
[29] См.: Бутусов В. «Специалисты по низкопоклонству» // Литературная газета. 1948. 10 января. № 3. С. 3; Балакин А. Похороны кукушки // Литературная газета. 1948. 17 марта. № 22. С. 3.
[30] Подробнее см.: Алымов С.С. На пути к «Древней истории народов СССР»... С. 135—137.
[31] СПФ АРАН. Ф. 1049. Оп. 2. Д. 62. Л. 16.
[32] АРАН. Ф. 1909. Оп. 1. Д. 76. Л. 122.
[33] СПФ АРАН. Ф. 1049. Оп. 2. Д. 62. Л. 28—36.
[34] Архив ИИМК. Ф. 312. Оп. 1. Д. 281. Л. 93—95.
[35] Золотаревская И. Обсуждение работы В.И. Равдоникаса «История первобытного общества» // Советская этнография. 1948. № 4. С. 192—196.
[36] АРАН. Ф. 1909. Оп. 1. Д. 76. Л. 131.
[37] АРАН. Ф. 142. Оп. 1. Д. 167. Л. 48.
[38] АРАН. Ф. 1909. Оп. 1. Д. 77. Л. 74.
[39] Там же. Д. 77. Л. 278.
[40] Архив ИИМК. Ф. 35. Оп. 5. Д. 252. Л. 169.
[41] Архив ИИМК. Ф. 312. Оп. 1. Д. 300. Л. 13—17, 27—33. Несправедливость характеристики, данной Равдоникасом, признают и современные исследователи. См.: Платонова Н.И. Панорама отечественной археологии на «великом переломе» (по страницам книги В.И. Равдоникаса «За марксистскую историю материальной культуры») // Археологические вести. 2002. № 9.
[42] Архив ИИМК. Ф. 312. Оп. 1. Д. 300. Л. 160—161.
[43] Там же. Л. 90.
[44] Там же. Л. 139.
[45] АРАН. Ф. 142. Оп. 1. Д. 167. Л. 64.
[46] Архив ИИМК. Ф. 312. Оп. 1. Д. 300. Л. 180; ПФА РАН. Ф. 1049. Оп. 1. Д. 76.
[47] Архив ИИМК. Ф. 312. Оп. 1. Д. 316. Л. 155.
[48] Пиотровский Б.Б. Страницы моей жизни. СПб., 1995. С. 259—260.
[49] Формозов А.А. К столетнему юбилею В.И. Равдоникаса // Российская археология. 1996. № 3. С. 198—199.
[50] См., например: Платонова Н.И. Панорама отечественной археологии на «великом переломе»... С. 275. А.Д. Столяр объясняет поведение Равдоникаса в 1948 году исключительно мотивами ленинградского «патриотизма» и протеста против перенесения академического центра в Москву. Он говорит о желании «защитить исследовательские возможности» ленинградских археологов от неких не вполне понятных опасностей. Не менее туманно его объяснение «поражения» Равдоникаса в Москве «корыстным предательством его “дружины”». Также противоречит архивным источникам утверждение Столяра о якобы созерцательном неучастии Равдоникаса в дискуссиях о Марре. Переход Равдоникаса от «кипучей деятельности» к «глубокой индивидуальной созерцательности» был не столь мгновенным, как изображает Столяр, что психологически вполне естественно. См.: Столяр А.Д. Индексы феномена интеллигентности в деятельности В.И. Равдоникаса (1894—1976) — лидера ленинградской археологии 30—40-х годов минувшего столения (по личным воспоминаниям) // Феномен российской интеллигенции. История и психология. СПб., 2000. С. 108—114. Следует отметить, что своеобразное противостояние Москвы и Ленинграда до недавних пор отражалось в оценке деятельности Равдоникаса в историографии — достаточно сравнить характеристики, даваемые А.А. Формозовым, с образом, созданным статьями А.Д. Столяра. См. также: Столяр А.Д. Деятельность Владислава Иосифовича Равдоникаса // Тихвинский сборник по материалам историко-географической конференции. Тихвин, 1988. Вып. 1. С. 1—25; Он же. Предисловие // Памятники древнего и средневекового искусства. СПб., 1994. С. 5—11.
[51] Формозов А.А. К столетнему юбилею В.И. Равдоникаса. С. 201.
[52] Тункина И.В. Несколько штрихов к портрету В.И. Равдоникаса 1920-х гг. (по архивным материалам) // Невский археолого-историографический сборник. СПб., 2004. С. 193—215.
[53] АРАН. Ф. 1909. Оп. 1. Д. 128. Л. 3.
[54] Подробнее о его карьере см. в не опубликованной пока работе: Свешников А.В. Самый советский медиевист. К научной биографии А.Д. Удальцова (приношу благодарность автору, предоставившему мне возможность ознакомиться с рукописью).
[55] Архив ИИМК. Ф. 312. Оп. 1. Д. 316. Л. 267—268.
[56] Там же. Л. 260, 281.
[57] Монгайт А. Обсуждение трудов И.В. Сталина по вопросам марксизма в языкознании в Институте истории материальной культуры АН СССР // Вестник древней истории. 1950. № 3. С. 207.
[58] Архив ИИМК. Ф. 312. Оп. 1. Д. 316. Л. 99—103.
[59] Там же. Л. 128—130; 168—170.
[60] Там же. Л. 195—196.
[61] Там же. Л. 121.
[62] Обсуждение трудов И.В. Сталина по вопросам языкознания // Краткие сообщения ИИМК. Вып. 36. М.; Л., 1951. С. 206—208.
[63] Пиотровский Б.Б. Страницы моей жизни. С. 264—265.
[64] АРАН. Ф. 1909. Оп. 1. Д. 129. ЛЛ. 126—127.
[65] Обсуждение трудов И.В. Сталина по вопросам языкознания. С. 208.
[66] Панеях В.М. Упразднение Ленинградского отделения Института истории АН СССР в 1953 году // Вопросы истории. 1993. № 10. С. 19—27.
[67] Против вульгаризации марксизма в археологии. М., 1953. С. 3.
[68] Пиотровский Б.Б. Страницы моей жизни. С. 272—274.
[69] Архив ИИМК. Ф. 312. Оп. 1. Д. 316. Л. 146.
[70] Бернштейн С.Б. Зигзаги памяти. М., 2002. С. 149, 151.
[71] Я приношу благодарность профессору В.В. Пименову за это сообщение.
[72] Толстов С. Пример творческого марксизма // Правда. 1950. 4 июля. №. 185. С. 3.
[73] Писатель В. Берестов, бывший учеником Толстова, а вслед за ним и биографы Толстова Ю.А. Рапопорт и Ю.И Семенов утверждают, что он якобы отправил отклик на сталинскую статью прямо с раскопок и он появился «с указанием места написания — “урочище Топрак-кала”», однако это всего лишь красивая легенда. См.: Берестов В. Избранные сочинения: В 2 т. М., 1998. Т. 2. С. 400.
[74] Толстов С.П. Значение трудов И.В. Сталина по вопросам языкознания для развития советской этнографии // Советская этнография. 1950. № 4. С. 3.
[75] АРАН. Ф. 1909. Оп. 1. Д. 129. Л. 171.
[76] АРАН. Ф. 1869. Оп. 1. Д. 61. Л. 4—5.
[77] Там же. Л. 16.
[78] Толстов С.П. Значение трудов И.В. Сталина по вопросам языкознания… С. 20.
[79] АРАН. Ф. 1896. Оп. 1. Д. 61. Л. 29—30, 51—53.
[80] АРАН. Ф. 1896. Оп. 1. Д. 128. Лекция 6. Л. 16.
[81] АРАН. Ф. 1909. Оп. 1. Д. 157. Л. 29.
[82] Там же. Л. 44.
[83] Задачи советского языкознания в свете трудов И.В. Сталина и журнал «Вопросы языкознания» // Вопросы языкознания. 1952. № 1. С. 23—24.
[84] Плотникова В.А. Совещание по методологии этногенетических исследований в свете сталинского учения о нации и языке // Вопросы языкознания. 1952. № 1. С. 160; См. также: Горнунг Б.В., Левин В.Д., Сидоров В.Н. Проблема образования и развития языковых семей // Там же. С. 63—64.
[85] Рапопорт Ю.А., Семенов Ю.И. Сергей Павлович Толстов: выдающийся этнограф, археолог, организатор науки // Выдающиеся отечественные этнологи и антропологи ХХ века. М., 2004. С. 206.
[86] Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании: В 2 т. М., 1951; Против вульгаризации марксизма в археологии. М., 1953.
[87] Подробнее см.: Алымов С.С. Три этюда о «марризме» в советской этнографии // Этнографическое обозрение. 2008. № 6. С. 79—93.
[88] АРАН. Ф. 1909. Оп. 1. Д. 104. Л. 145—146.
[89] Третьяков П.Н. Произведения И.В. Сталина о языке и языкознании и некоторые вопросы этногенеза // Против вульгаризации марксизма в археологии. С. 32.
[90] Третьяков П.Н. Вопросы происхождения славян в свете трудов И.В. Сталина о языкознании // Доклады VI научной конференции Института археологии. Киев, 1953. С. 30—31.
[91] АРАН. Ф. 457. Оп. 1 (1940). Д. 13. Л. 7—8.
[92] Архив ИИМК. Ф. 312. Оп. 1. Д. 316. Л. 190.
[93] АРАН. Ф. 1909. Оп. 1. Д. 157. Л. 32.
[94] Артамонов М.И. Археологические теории происхождения индоевропейцев в свете учения Н.Я. Марра // Вестник ЛГУ. 1947. № 2. С. 100.
[95] См. об этом: Грегори П. Политическая экономия сталинизма. М., 2006. С. 92 — 101.
[96] Рапопорт Ю.А., Семенов Ю.И. Сергей Павлович Толстов: выдающийся этнограф, археолог, организатор науки. С. 210.
[97] О применении этого понятия к советскому научному сообществу см.: Александров Д. Немецкие мандарины и уроки сравнительной истории // Рингер Ф. Закат немецких мандаринов. М., 2008. С. 617—632.
[98] Цит. по: Рапопорт Ю.А., Семенов Ю.И. Сергей Павлович Толстов: выдающийся этнограф, археолог, организатор науки. С. 204.
[99] Слезкин Ю. Арктические зеркала... С. 352.
[100] АРАН. Ф. 142. Оп. 1. Д. 69. Л. 5.
[101] Подробнее об этом: Алымов С.С. П.И. Кушнер и развитие советской этнографии в 1920—1950-е годы. С. 138—169.
[102] Хархордин О. Обличать и лицемерить. Генеалогия российской личности. М.; Л., 2002. С. 18—71.
[103] См. точку зрения К.А. Богданова: Богданов К. Наука в эпическую эпоху: классика фольклора, классическая филология и классовая солидарность // НЛО. 2006. № 78.26 августа 2009, 09:00 Сергей Алымов
Давайте обсудим ваш вопрос или заказ!
Изложите суть Вашего запроса в области генеалогии. Наши специалисты обязательно свяжутся с Вами, проконсультируют и найдут наиболее подходящее решение.